Беседу вела Людмила Мазурова
Сегодня новостные каналы регулярно радуют нас сообщениями о создании новых инновационных препаратов для лечения того или иного тяжёлого недуга, но очень редко информируют о начале их производства. Более 99% всех разработок, ведущихся в отечественных научных центрах, не только не транслируются в производственную и рыночную сферу, но даже не доходят до этапа клинических исследований. Понятно, что путь от научной лаборатории до аптеки тернист и долог, но действительно ли дело в объективных причинах отсутствия этих препаратов в выписанных врачом рецептах? На этот и другие вопросы мы попросили ответить известного российского специалиста в области разработки лекарственных средств, доктора химических наук Константина Балакина.
– В советские времена путь от идеи до воплощения был очень тернистым, и в начале перестройки нас убеждали, что рынок всё расставит по местам и эффективные предприниматели будут не просто финансировать разработки, а прямо-таки выхватывать всё новое из рук учёных. Финансирует ли вас фармотрасль? Или все заботы на государстве?
– Жизнь показывает, что никто из рук учёных разработки не выхватывает и ничего рынок по местам не расставляет. А если и расставляет, то в современных отечественных реалиях это выражается лишь в том, что наш российский рынок почти полностью захвачен зарубежной фарминдустрией, особенно в самых высокотехнологичных и высокомаржинальных сегментах. Понятно, что эта категория «потенциальных инвесторов» совершенно точно не заинтересована в поддержке российских лекарственных разработок.
Факты, например, таковы, что доля импортных лекарств на рынке России в 2024 году составила в ценовом выражении примерно 55%, или почти $17 млрд, причём поставлялись они преимущественно из недружественных стран. В структуре оставшихся 45% продаж, приходящихся на «локализованные» лекарственные препараты, львиную долю составляют те же импортные закупки – активных фармсубстанций, других ингредиентов, материалов и т.д. Самые высокоинновационные и высокомаржинальные сегменты российского рынка практически полностью контролируются западной фармой, а в перспективе будут контролироваться Китаем.
Российский фармацевтический бизнес по-прежнему является второразрядным игроком даже в своей собственной стране. За редкими исключениями, он остаётся слабым как по имеющимся ресурсам, так и по компетенциям. Говорю это с большим сожалением, поскольку сам давно и активно сотрудничаю с рядом передовых отечественных индустриальных групп, например с группой компаний ХимРар, а также АО «Татхимфармпрепараты». Российский фармбизнес, если говорить по-простому, старается изо всех сил, в том числе в попытке поддержки, создания и внедрения собственных фармацевтических инноваций. Имеются определённые успехи. Та же группа компаний «ХимРар» внедрила несколько прекрасных инновационных препаратов собственной разработки, свежие примеры – анти-ВИЧ препарат элпида (2017 год) и средство терапии тревожных расстройств авиандр (2023 год). А «Татхимфармпрепараты» несколько лет активно поддерживали разработки Казанского федерального университета. К сожалению, эта деятельность не оказывает существенного влияния на рыночные реалии.
По моему мнению, в нашей стране эффективным заказчиком фармацевтических НИОКР может быть только государство, особенно на ранних этапах, а также при переходе от доклинических к клиническим фазам исследований. Для этого есть все возможности, хотя до сих пор они, скажем так, не актуализированы.
– Константин Валерьевич, вы были одним из разработчиков стратегии «Фарма-2020». Всё ли из намеченного удалось реализовать?
– Основным положительным моментом программы «Фарма-2020» стало то, что после десятилетий практически полного забвения научных исследований и разработок в лекарственной сфере государство выделило значительные ресурсы на чисто прикладные направления по созданию инновационных отечественных препаратов. В результате появился широкий ряд современных фармацевтических производств, созданы с нуля или переоборудованы несколько современных центров доклинических исследований, профинансированы сотни проектов по доклинической и клинической разработке. Было поставлено производство широкого ряда лекарственных препаратов – дженериков, а также осуществлён трансфер нескольких интересных зарубежных препаратов. Возможно, главный результат состоял в том, что на волне этих событий выросли, как зелёные ростки на иссохшей почве, молодые научные коллективы разработчиков, по прошествии некоторого времени готовые решать самые сложные современные задачи в этой области.
Но немало и разочарований. Возможно, читатели обратили внимание, что среди достижений я не упомянул новые лекарства российской разработки, хотя именно создание новых отечественных препаратов являлось главной целью этой масштабной федеральной программы. К сожалению, за редчайшими единичными исключениями, которые подтверждают правило (например, первый в классе антибактериальный препарат Фтортиазинон, разработанный НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи), никакого массового появления подобной продукции мы не увидели. Абсолютное большинство поддержанных проектов в итоге так и застряли где-то между доклинической и клинической фазами исследований.
Если говорить коротко, то основные проблемы были связаны как с некоторыми недостатками базового стратегического планирования программы, так и с определённой непоследовательностью конкретных тактических шагов. Пожалуй, в момент создания этой программы, в конце 2000-х годов, мы попытались прыгнуть выше головы, не в полной мере осознавая некоторые технологические, кадровые, ресурсные, организационные, регуляторные и иные проблемы отечественной науки и производственно-технологического сектора.
– Россия – родина выдающихся химиков. Химия как наука у нас на очень высоком уровне, а технологии и оборудование в нефтехимической отрасли – зарубежного производства, фармацевтики до недавнего времени, по сути, и совсем не было.
– В плане технологического оснащения на этапах как разработки, так и производства многое в последние годы поменялось. Уже никого в нашей стране не удивить ни современными лабораториями, ни фармацевтическими производствами, оснащёнными по самому последнему слову техники. Это результат как программы «Фарма-2020», так и дальнейших системных действий государства в этом направлении.
Однако праздновать победу явно преждевременно. По абсолютному большинству ключевых технологий Россия является чрезвычайно импортозависимой. Особенно эта тотальная технологическая зависимость заметна в высокотехнологичных сегментах. Очевидный результат такой зависимости – потенциальная нестабильность работы научных и производственных комплексов, высокие риски остановки технологических цепочек вследствие непоставки из-за рубежа даже единичных наименований оборудования, расходных материалов, запасных частей, сервисного обслуживания.
– Примерно в нулевые заговорили о необходимости развивать в ведущих университетах не только образовательные стратегии, но и вузовскую науку. Центр фармацевтики Казанского университета родился в те годы? Хватает ли средств и кадров?
– Да, именно в 2000-е годы в структуре отечественной науки стали происходить тектонические изменения, одним из которых стало повышение удельного веса университетов в научных исследованиях. Признаюсь, что, как выходец из академической среды, я поначалу неоднозначно относился к этой тенденции. Однако сейчас, уже будучи плотно интегрированным и в университетскую науку, считаю, что это было абсолютно верное стратегическое решение. Наука вообще немыслима без притока новых молодых кадров. А в настоящее время технологии настолько быстро меняются, что только молодые люди могут угнаться за их развитием. Например, самые лучшие на сегодняшний день в России научные группы, которые занимаются компьютерным конструированием лекарственных средств, в основном состоят из молодых исследователей, зачастую не перешагнувших даже 30-летний возрастной рубеж. Люди старшего поколения просто не успевают адаптироваться к этим изменениям.
По своему опыту знаю, насколько энергичными и работоспособными могут быть самые молодые люди, начиная со второго-третьего курса университета, если поставить им настоящую, мотивирующую, даже можно сказать – идеалистическую, прикладную научную задачу. Горы могут свернуть. И этот «ядерный» потенциал можно реализовать только в университете.
Насчёт сил и средств вопрос очень непростой. Выше я упомянул некоторую непоследовательность государственного управления в реализации программы «Фарма-2020». Одним из следствий стало то, что созданные тогда высокотехнологичные центры доклинической разработки лекарств впоследствии были фактически брошены на произвол судьбы, оставшись без какой-либо системной ресурсной поддержки, хотя бы в плане размещения небольших государственных заказов на исследования и разработки. Выжили в этой ситуации далеко не все коллективы. Если бы в Казанском федеральном университете не работал удивительный человек, а также талантливейший учёный и великолепный организатор Юрий Григорьевич Штырлин, то, думаю, и НОЦ фармацевтики КФУ ждала бы такая же участь.
– Кто определяет, какие разработки перспективные, а какие нет?
– Беда в том, что сейчас в России фактически отсутствует квалифицированный заказчик прикладных научных исследований. Доминирует пассивная стратегия инициации фармацевтических НИОКР. Проекты формируются довольно хаотично самими научно-исследовательскими коллективами, исходя из их собственного понимания, предпочтений, заделов и доступных ресурсов. А государство при помощи экспертных процедур осуществляет отбор и дальнейшее финансирование наиболее перспективных проектов. Предполагается, что на определённом этапе должны включиться мощные рыночные стимулы («невидимая рука рынка»), которые и приведут к дальнейшему успешному отбору, развитию и внедрению перспективных продуктов.
Однако эта стратегия в настоящее время находится в глубоком кризисе. Налицо крайний дисбаланс между фундаментальным и прикладным направлениями научных исследований, их чрезвычайно низкая прикладная
эффективность, подмена реального результата наукометрическими показателями, отсутствие интереса бизнеса к научным разработкам от университетских/академических групп. А главный симптом кризиса – фактическое отсутствие прикладных научных проектов, доведённых до логического завершения, внедрённого рыночного инновационного продукта. Редкие исключения имеются, но они лишь подтверждают неблагополучный общий диагноз.
Очевидно, что России пора переходить к модели квалифицированного формирования чётких и конкретных прикладных задач, решение которых будет обеспечено необходимыми ресурсами. То есть к созданию отсутствующей ныне в России «инстанции квалифицированного заказчика». Этот термин заимствован у российского политолога и общественного деятеля А.В. Чадаева, который описал сходную ситуацию в сфере формирования заказа Минобороны на беспилотные системы для нужд специальной военной операции. Оказалось, что реальной проблемой является именно отсутствие правильной постановки задач от государственного заказчика, а не недостаток финансирования или квалифицированных исполнителей.
Ключевая задача квалифицированного заказчика – формирование образа конкретного инновационного лекарственного продукта, который должен быть получен в результате проведения НИОКР, а также дальнейшая системная поддержка данной разработки вплоть до этапов устойчивого внедрения. Блестящие примеры реализации подобной управленческой стратегии дают нам коллеги из КНР, где был взят курс на обеспечение плотного технологического взаимодействия государственного заказчика, науки и бизнеса в сфере разработки собственных инновационных лекарств. В России нам ещё предстоит вырастить в недрах государственных институтов эту высокопрофессиональную инстанцию. К слову, во времена СССР эту функцию успешно выполняли главки. Но это тема для отдельного разговора.
– Константин Валерьевич, разработанный в вашем центре противовоспалительный препарат (KFU-01) в 2019 году получил Золотую медаль 47-го Женевского салона изобретений и стал финалистом акселераторов Стартап-ралли 2018 и BioBridge 2019. В чём его преимущество перед другими НПВС и какова его судьба?
– Это простой, но удивительно эффективный препарат, внедрение которого могло бы решить ряд очень тяжёлых проблем, связанных с хроническими воспалительными процессами опорно-двигательной системы, в частности остеоартритами, остеоартрозами и другими. С научной точки зрения это бинарный пролекарственный препарат, содержащий в своей структуре два фармакофорных компонента. При попадании в воспалённую ткань эти индивидуальные компоненты высвобождаются и начинают действовать в синергетической манере. В результате достигаются параметры эффективности и безопасности, радикально превосходящие всё известное на сегодня.
Но судьба KFU-01 остаётся неопределённой. Препарат успешно прошёл доклинические исследования, но уже несколько лет топчется перед входом в клиническую фазу. Причины многообразны и не имеют никакого отношения к научным аспектам. Мы, как разработчики этого препарата, хорошо понимающие его потенциал, не теряем надежду и сделаем всё от нас зависящее, чтобы этот препарат дошёл до людей.

– Золотую медаль в Женеве получил и ваш противоопухолевый препарат на основе инновационного ингибитора АВС-транспортёров (KFU-02). Каков его механизм действия?
– KFU-02 также по-своему уникален и не имеет аналогов. Принцип его действия состоит в следующем. У раковой клетки имеются очень развитые механизмы сопротивления действию противоопухолевых лекарственных средств. Она попросту выбрасывает проникнувшие внутрь клетки молекулы лекарства при помощи специальных каналов, так называемых АВС-транспортёров. KFU-02 мягко, без значимых токсических эффектов, подавляет работу этих АВС-транспортёров, в результате чего раковая клетка оказывается практически беззащитной против самых обычных, давно применяемых противоопухолевых средств, например доксорубицина. То есть KFU-02 является специфической добавкой к традиционным средствам химиотерапии рака, которая существенно усиливает их эффективность. На животных моделях его применение привело к полному уничтожению раковых клеток. Важно ещё и то, что препарат имеет копеечную стоимость в отличие от современных средств таргетной терапии рака, продвигаемых западной фармой. Цены на такие препараты – просто космические при очень умеренной реальной эффективности, о чём обычно умалчивают компании-поставщики такой продукции.
По поводу его судьбы можно сказать практически те же слова, что сказаны выше про KFU-01.
– С антибактериальным (KFU-03), аналогом антибиотика фторхинолонового ряда, та же история? Вошёл в число 100 лучших изобретений России, но в аптеке его не купить?
– KFU-03 – результат современного технологизированного подхода к разработке лекарств, который называется «дизайн на основе аналога». Он является структурным аналогом известного антибиотика фторхинолонового ряда. В его структуру внедрены специальные химические модификации, которые позволили существенно повысить безопасность этого соединения, а также улучшить тканевое распределение: KFU-03 преимущественно накапливается в лёгочной ткани. Мы полагаем, что новый препарат успешно подойдёт для педиатрических применений – именно в силу его очень высокой безопасности.
Ну а по поводу появления в аптеках… Смотрите комментарии выше.
– А зачем нужны новые антисептики? Традиционные работают хуже?
– Роль антисептиков для наружного применения очень высока. Именно они являются первым барьером на пути проникновения микробных патогенов в наш организм. Надо сказать, что противник этот довольно изощрённый – миллионы лет эволюции помогли микробам сформировать мощнейшие механизмы устойчивости практически к любым внешним воздействиям, включая лекарственные препараты. В этом, собственно, и состоит главная проблема антимикробных средств, включая наружные антисептики: при длительном применении к каждому из них рано или поздно формируются устойчивые штаммы патогенов.
Главная отличительная особенность нашего KFU-05 – это как раз способность противостоять выработке резистентности патогенов. Мы испытали этот препарат уже почти на 300 различных бактериальных и грибковых штаммах, и ни один патоген не смог выработать к нему устойчивости. И это в дополнение к тому, что наш препарат изначально превосходит все известные антисептики – мирамистин, бензалконий, хлоргексидин, октенисепт – по своей активности.
Надеемся запустить этот препарат в производство уже в этом году. Сначала он будет выпускаться как технический дезинфектант, а потом мы планируем провести его клинические исследования и внедрить в качестве лекарственного антисептика. Не сомневаемся в его прекрасных перспективах.
– Одна из самых страшных болезней – рак. В вашем портфеле есть ещё один противоопухолевый препарат – KFU-07. Он «перепрограммирует раковые клетки посредством воздействия на митохондриальный редокс-гомеостаз». Что это значит?
– Здесь речь идёт о концептуально совершенно новом решении, которое, возможно, изменит подходы человечества к терапии рака. Практически все известные и ныне разрабатываемые средства сводятся к попытке селективно, то есть не затрагивая при этом нормальные клетки и ткани, убить раковую клетку при помощи прямого или опосредованного (при помощи иммунных механизмов) воздействия.
KFU-07 не убивает раковую клетку, а переключает её на путь незлокачественного развития. Ещё недавно считалось, что это нереально, однако в последнее время в мировой научной литературе начинают появляться теоретические и экспериментальные обоснования возможности такого подхода. KFU-07 действует именно таким образом, влияя на окислительно-восстановительный гомеостаз митохондрий – ключевого компонента живой клетки, её энергетического центра. Вряд ли можно объяснить простыми словами биохимические механизмы, лежащие в основе этих эффектов. Добавлю лишь, что эта работа является развитием идей великих учёных современности – О. Варбурга, Л. Полинга, В.П. Скулачева и других.
– Константин Валерьевич, фармацевтика – это огромные, иногда баснословные деньги (вспомним бигфарму). Например, препарат Золгенсма для лечения спинально-мышечной дистрофии стоит больше двух миллионов долларов. И понятно, что на этом рынке не только бешеная конкуренция, но и очень серьёзный шпионаж. А за нашими учёными и следить не надо. По требованию Минобразования, чтобы доказать свою эффективность, учёные должны обязательно публиковаться в научных журналах, причём зарубежных и на английском языке. Получается заколдованный круг: ослушаешься Минобра – закроют финансирование, выполнишь – патент на твоё изобретение может получить конкурент. Есть выход?
– Вы совершенно правильно и понятно описали проблему. Российские разработчики лекарств вынуждены публиковать свои исследования за рубежом, преимущественно в недружественных странах. Например, в сфере медицинской химии девять из десяти ведущих по рейтингу научных изданий находятся в США, Великобритании и Франции, а ещё одно в Египте. В России первый специализированный академический научный журнал по медицинской химии – «Медицинская химия и разработка лекарственных средств» – планируется начать выпускать только в этом году. Поэтому все наши разработки, в том числе самые перспективные, мы вынуждены первым делом показывать нашим американским и европейским «друзьям».
В последнюю пару десятилетий, к сожалению, единственным критерием эффективности работы учёного стали публикации в зарубежных научных изданиях. Надеюсь, эта поистине позорная страница в истории отечественной науки скоро будет перевёрнута. Немного опасаюсь, что вместе с водой могут выплеснуть и ребёнка. Ретивые и не слишком разбирающиеся в предмете чиновники вполне могут вообще «запретить» научные публикации, то есть исключить их из любых рейтингов и отчётов, и такое лекарство будет хуже болезни. Научная статья – это абсолютно необходимый компонент деятельности учёного. Главное, чтобы она не была единственным критерием эффективности его работы.
«ЛГ»-ДОСЬЕ
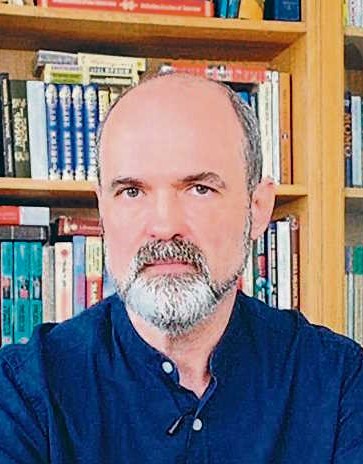
Основные научные специализации доктора химических наук Константина Валерьевича Балакина – органическая, биоорганическая, медицинская и компьютерная химия; биотехнология; фармакология; разработка лекарственных соединений. Высококвалифицированный эксперт в сфере биомедицинских технологий. Один из разработчиков стратегии «Фарма-2020». Активный участник и организатор ряда независимых инновационных проектов в сфере разработки лекарств, а также исследовательско-внедренческих альянсов.
Профессор Московского физико-технического института (Долгопрудный), профессор Российского университета дружбы народов им. П. Лумумбы (Москва), главный научный сотрудник Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН (Черноголовка), ведущий научный сотрудник Научно-образовательного центра фармацевтики Казанского (Приволжского) федерального университета.
Автор более 150 рецензированных публикаций, более 20 патентов, ряда научных монографий и учебно-методических пособий.


