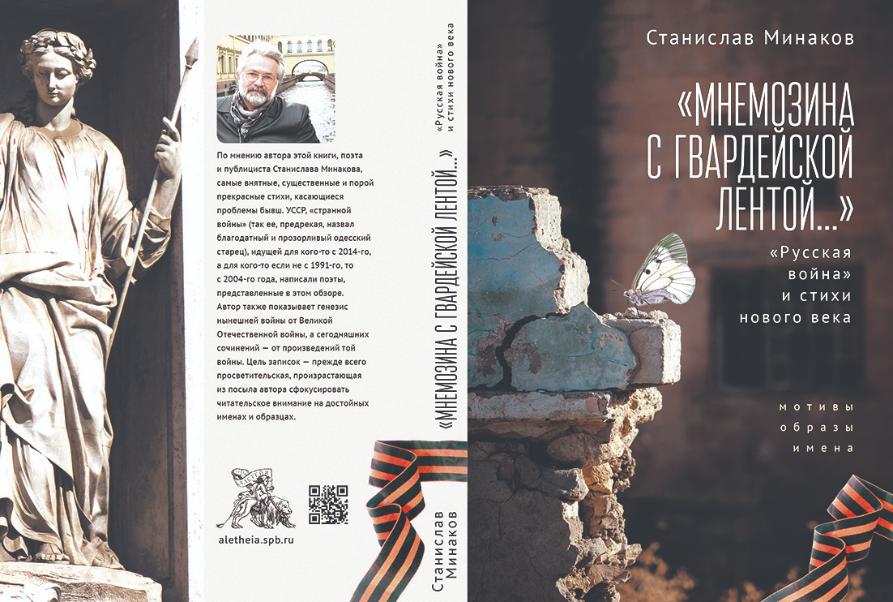Беседу вёл Александр Пожарский, Белгород
В Белгороде, ставшем в наши дни прифронтовым, прошла презентация книги Станислава Минакова (правда, из-за интенсивных обстрелов вечер пришлось переносить). Название «Мнемозина с гвардейской лентой» расширено подзаголовком «Русская война и стихи нового века. Мотивы, образы, имена».
После презентации автор ответил на вопросы «ЛГ».
– Станислав Александрович, как возник замысел?
– Поскольку я и сам стихотворец, и изрядно в «украинской теме», и прочёл немало хороших (и ещё больше плохих) стихов в интересующем нас актуальном ракурсе, то захотелось сделать обзор современной русской поэзии – того, что было написано в период СВО, Русской весны и в связи с «украинским случаем». Жизнь потребовала, как метафорично сказал Иван Шмелёв о валаамских лесах, «осветить дебри». Начал писать очерк, а получилась книжка. Основу составили три десятка глав, то есть три десятка портретов современных поэтов. На мой взгляд, наиболее внятные, существенные и порой прекрасные стихи, касающиеся проблемы бывшей УССР, «странной войны», идущей для кого-то с 2014-го, а для кого-то если не с 1991-го, то с 2004 года, написали поэты, представленные в этом обзоре. Хотелось сфокусировать внимание на достойных именах и образцах.
– В чём всё же отличие героев вашей книги от прочих поэтов?
– Герои «Мнемозины» – самодостаточные мастера слова, в кучу не сбивающиеся, не обладающие прожорливостью саранчи, а обладающие чаще всего «лица необщим выраженьем». Не проходимцы. Не утверждающиеся за счёт унижения и поливания помоями оппонентов. Их чувство патриотизма – деликатно; оно не требует своего, не кричит с колокольни в матюгальник: «я родину люблю!», а тем более «я родину люблю больше, чем другие!» и тем паче «я родину люблю, поэтому дайте мне грант потолще!»
– Обилие пишущихся стихов, выходящих коллективных и персональных сборников на военную тему в нынешние времена потрясает. Вас это не настораживает?
– Сейчас многие пишут актуальные стихи, что и понятно, – у всех душа болит. С профессиональной точки зрения чаще всего эти произведения уязвимы. Но трудно вынести происходящее, и человек хочет выплеснуться. Наверное, так же было и в годы Великой Отечественной. Девятый вал графомании нас, похоже, уже накрыл. Слово весьма девальвировалось. Бумаги и деревьев, конечно, жаль, уходящих на всю эту продукцию, но что поделать! Рекомендую всем прочесть стихотворение Д. Самойлова «В этот час гений садится писать стихи…» А Чичибабин и вовсе судил так: уж лучше пусть графоманят, чем водку пьют и жену бьют.
– Есть мнение, что современная поэзия вяла, апатична, нарциссична, эгоцентрична, негражданственна.
– Цель моих записок – прежде всего просветительская, произрастающая из посыла показать, что русская поэзия и сегодня жива, гармонична и глубока, и там, где она в корнях опирается на традиции великой русской литературы, в частности XIX века, которую Томас Манн назвал святой, и сегодня произрастают удивительные всходы. Исхожу из того, что большей новизны, чем Благая Весть, быть не может. В этом силовом поле – красоты духовности и духовности красоты, на мой взгляд, и находятся лучшие свершения нашей современной поэзии.
– Всё же, как появилась на вашем горизонте Мнемозина?
– В связи с темой памяти Великой Отечественной войны, перетекающей через 80 лет в нынешнюю, и возникает, всё более актуализуясь, образ Мнемозины – древнегреческой богини памяти, между прочим, матери всех муз. В этой связи очевиден генезис нынешней войны от Великой.
Кроме того, зацепившись за строку поэта Андрея Дмитриева и позаимствовав её для названия своей книги, я узнал, что в России водится редкая бабочка – Мнемозина, или Чёрный аполлон (Parnassius mnemosyne), занесённая в Красную книгу. Бабочка «Парнасская мнемозина» с её смысловой и цветовой символикой вполне естественно пришлась к теме.
– Словесность, мы видим, реагирует на события, тем более на военные, причём на разных уровнях и слоях.
– Сегодня мы становимся свидетелями явления, которое ожидалось и которое нам известно по Великой Отечественной: в сражениях прорастает высокий дух великой русской поэзии, старшие солдаты которой и сейчас остаются в строю. Но не забудем и о тылах; об императиве «тыл – фронту!»
В «Мнемозине» представлены авторы, чьи сочинения оказались в поле моих эстетических (читай этических и гражданственных) ожиданий и предпочтений. Троих уже нет с нами: Владимир Яковлев ушёл в 2016-м, Сергей Семёнов пропал без вести на фронте в 2024-м, Лада Пузыревская скончалась в 2025-м.
– Целая плеяда современных поэтов – известных и не очень. Большой географический и возрастной, стилистический, интонационный разброс. Среди наиболее известных имён у вас Юнна Мориц, Светлана Кекова, Марина Кудимова, Юрий Кублановский… Есть и новые, открывшиеся широкой аудитории в период СВО. О многих из них вы писали и на презентации рассказывали с теплотой.
– Их судьбы тесно сплетены с судьбами эпохи. Но в данном случае высокое и ненарочитое чувство к Родине, а порой и поразительные пророчества выражены через мастерское, виртуозное письмо, через культурные и «лексические пласты» при внятной нравственной и гражданской позиции. Например, «одну из господствующих высот на Среднерусской возвышенности классического стихосложения» занимает уроженец донбасского шахтёрского городка Доброполье, сын горного инженера, выпускник журфака Киевского университета Андрей Дмитриев – и как гражданин большого Отечества, и как поэт. Строки Дмитриева 2014-го, когда война уже шла на его малой родине:
Этой местности злые складки
прирастают тобой, боец,
получая в сухом остатке –
дым за речкой Сухой Торец.
Вертолёты снуют над Летой,
обозначив её черты.
Мнемозина с гвардейской лентой.
Участившийся пульс тщеты.
Это песня о пуле-дуре.
Это вечность поёт с листа.
Это витязь в тигровой шкуре
откликается с блокпоста.
Это сосны скрипят по-русски,
открывая такой обзор,
будто ангелы, сняв разгрузки,
отсыпаются у озёр.
Жительница Саратова Светлана Кекова словно соединяет две наши речные духоносные артерии – Волгу и Днепр, на которых и между которыми создавалась в течение последнего тысячелетия Русская цивилизация.
Мы запомнили цикл трагических стихов С. Кековой, написанный в мае 2014-го.
Кажется, что смыты все улики,
в чистом небе носятся стрижи,
но слышны над Украиной крики:
«Москалей проклятых на ножи!»
Сквозь вселенский ужас украинский
видно, как с ухмылкой воровской
медленно колдует пан Бжезинский
над великой шахматной доской.
Марина Кудимова речёт с силой даже не боярыни Морозовой, а самого протопопа Аввакума. И смело, дерзко, но гармонично обходится с русским словом, словно рождая его обновлённым. Сильна и многослойна метафора – название стихотворения «Ожоговый Центр»:
В Центре ожоговом из-под огня
Вывел меня человек-головня…
«Грайворон» – грает над ратником вран,
Видевший въявь сочетания ран
Первой Великой, Второй мировой,
Третьей – двуликой войны моровой,
Давешних, будущих – постмировых,
Рваных осколочных и штыковых.
Плотью стервягу кормили войска
От князя Игоря до ЧВК.
Скрижально, словно на мраморе, пишет музыкальная девушка Софья Юдина – студентка Московской консерватории, пианистка, композитор, но и сестра милосердия, ухаживающая в госпитале за лежачими ранеными. Это не умозрительные сочинения, эти строки оплачены судьбой. И оплаканы:
Я жила, никогда не срываясь
на начатом слове,
По палатам, где в ряд камуфляжи
висят у двери,
Сотню рук я пыталась отмыть
от земли и от крови,
Но сильнее всего полюбила я руки твои.
– Изломы некоторых судеб просто потрясают!
– У поэтов изломы судеб и пророческие проговорки нередки. Петербургский поэт Сергей Семёнов ушёл на фронт добровольцем. Получил тяжёлое ранение, но снова вернулся на передовую. В январе 2024 г. пропал без вести под Купянском, через месяц после того, как написал строки, которые прорицают судьбу их автора.
Заройся в землю. Сверху, как пила,
Жужжит над головой БПЛА
Злым насекомым, тужится, гундосит.
А ты гадаешь: сбросит ли, не сбросит?..
Здесь смерть имеет местный колорит.
Пiд Кэпянском, як Шредiнгера кiт,
Ты в этот миг убит и не убит.
– На контртитуле «Мнемозины» воспроизведён рисунок восьмилетнего Саши Минакова «Бабочка», сделанный в 1995 году…
– 6 октября, в день, когда я в основном «Мнемозину» завершил, в Харькове умер мой сын, 19 дней не доживший до 37-летия. Сын с 2014 г. был одним из активистов молодёжного сопротивления бандеровцам; Харьков первым, раньше Донецка, встал против коричневого госпереворота. Книгу я посвятил памяти двух харьковцев, Александров Минаковых, – моего сына (25.10.1987, Харьков – 6.10.2024, Харьков) и моего отца (31.01.1929, Харьков – 12.02.2005, Белгород), подростком пережившим двухгодичную фашистскую оккупацию. По сути, эта книга – своеобразный памятник не только отцу и сыну, но и многим людям, чьи судьбы так или иначе оказались перепаханными украинскими событиями последнего десятилетия.