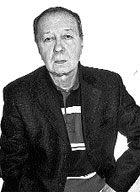 Поставленный в ноябре 2006 года в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии спектакль «Весёлая вдова» в октябре этого года был удостоен высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит». В числе других создателей спектакля лауреатом этой
Поставленный в ноябре 2006 года в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии спектакль «Весёлая вдова» в октябре этого года был удостоен высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит». В числе других создателей спектакля лауреатом этой
престижной премии стал и автор русского текста всемирно известной оперетты Ф. Легара – ведущий петербургский переводчик, кавалер ордена «Малый Крест Венгерской Республики» Сергей ВОЛЬСКИЙ (Зуккау).
С ним побеседовал наш корреспондент.
– Сергей Владимирович, вы – представитель переводческой династии Санкт-Петербурга. Поэтому начнём с истоков. Итак…
– Я происхожу из семьи российских немцев. Мои дедушка и бабушка – Герберт Зуккау и Алиса фон Витте – были профессиональными литераторами-переводчиками, в 20–30-е годы прошлого века активно сотрудничали с ленинградскими издательствами, переводя произведения немецких и австрийских писателей. Им принадлежит и первый перевод на русский язык знаменитого романа Я. Гашека «Похождения бравого солдата Швейка» (издательство «Прибой», 1928). Их старший сын Владимир (мой отец), взявший псевдоним «Вл. Невский», начинал как поэт, в 1948 году выпустил сборник рассказов, а затем выучил латышский язык и полностью переключился на переводы. Он познакомил русского читателя с замечательным латышским поэтом Александром Чаком («Лестницы», Рига, 1964, «Сердце на тротуаре», М., 1966), переводил Яна Райниса, современных поэтов и прозаиков. В 1959 г. в Гослитиздате вышла «Антология латышской поэзии» в 2 томах, где он был составителем и основным переводчиком.
– Так что с выбором профессии проблем не было?
– Никаких. Я ещё в школу не ходил, а уже знал, что стану переводчиком. Мне нравилось смотреть, как отец сидит за столом, курит папиросу и, глядя в книгу с непонятным текстом, пишет что-то на чистом листе. И я хотел стать таким же, как он.
– Но чтобы стать переводчиком, надо знать какой-то язык.
– Это я осознал позже. Уже в шестом классе, когда начал писать стихи и заниматься в кружке юных поэтов при редакции газеты «Ленинские искры». Очень хотелось что-то переводить – и я покупал всевозможные словари и переводил что ни попадя со славянских языков: с украинского, белорусского, болгарского, польского. А потом отец посоветовал мне учить венгерский.
– Почему?
– Вот и я задал ему тот же вопрос. Он ответил: «Потому что у нас мало переводчиков с венгерского».
– Это действительно так?
– Он знал, что говорил. Я до сих пор являюсь единственным переводчиком венгерской литературы в Санкт-Петербурге.
– Значит, не жалеете, что последовали его совету?
– Не было повода. Когда я самостоятельно, по учебникам, освоил язык на приличном уровне, мои переводы сразу начали выходить в журналах «Нева» и «Звезда». Это был 1963 год, я тогда учился в 10-м классе. А вскоре на мои первые опыты обратила внимание замечательная московская переводчица Елена Ивановна Малыхина, работавшая редактором в издательстве «Художественная литература», и пригласила к сотрудничеству. Она оказалась высококвалифицированным и очень строгим редактором, что, в общем, было естественно для лучшего советского издательства, и во многом благодаря ей я состоялся как переводчик.
– А какими качествами, по вашему мнению, должен обладать профессиональный переводчик, особенно тот, который переводит поэзию? Понятно, что принципы подхода к переводу и прозы, и поэзии общие, но тем не менее поэзия требует к себе особого отношения и наличия некоего поэтического дара у переводчика. Я знаю, что вы недавно награждены «Золотой Есенинской медалью» за заслуги в области поэтического перевода.
– Давайте разберёмся, что же такое художественный, в том числе поэтический, перевод. Действительно ли каждый среднестатистический виршеплёт, умеющий рифмовать подстрочники, может претендовать на статус профессионального переводчика? Увы, нет! Искусство перевода не имеет никакого отношения к рифмоплётству.
В своё время великий И.В. Гёте, трепетно относившийся к искусству перевода, сказал: «Перевод должен не просто служить вместо оригинала, а полностью заменять его». Эти слова классика – священная заповедь для профессионального переводчика, который наподобие лицедея должен обладать даром перевоплощения, чтобы, отрешившись от своего «я», жить мыслями и чувствами автора. Профессия переводчика сродни актёрской – только вжившись в образ, можно передать тончайшие нюансы, заложенные в произведении. Эта профессия забирает человека целиком, её невозможно совмещать ни с какой другой. Как талантливый актёр, работающий над ролью, перестаёт существовать в реальной жизни и уже днём и ночью живёт в образе Гамлета или Тартюфа, так и переводчик в своей работе должен дойти до той точки кипения, когда он начинает ощущать себя Шекспиром, Бодлером, Петефи или Байроном, когда он непроизвольно начинает облекать свои мысли в ту же форму, что и они.
– Каково соотношение профессии поэта и переводчика? Возможно ли здесь какое-то сопряжение?
– Между профессиями поэта и переводчика знака равенства не поставишь. Более того, между ними глубокая пропасть. Это совершенно разные профессии. Объединяет их только форма (ямб, хорей и т.д.), которая по большому счёту значения не имеет. К примеру, и М. Цветаева, и Б. Пастернак занимались переводами, но, увы, не всегда удачно. И причина этого заключалась в том, что они не в состоянии были отказаться от своей яркой индивидуальности и полностью подчинить себя другому поэту. Возникает резонный вопрос: значит, поэты не могут успешно заниматься переводами, если даже таких выдающихся поэтов, как Цветаева и Пастернак, преследовали неудачи в этой области? Ответ предельно прост: могут, но только в тех случаях, когда переводимые стихи близки им по духу, т.е. соответствуют их индивидуальности. Так, например, Михаил Исаковский (автор известных песен «Катюша», «Летят перелётные птицы» и др.), чей талант сформировался в стихии русского фольклора, великолепно перевёл два стихотворения Шандора Петефи (который использовал в своём творчестве мотивы венгерского песенного фольклора) – «Песня волков» и «Песня собак». Конечно, при этом Михаил Исаковский профессиональным переводчиком не стал, «Фауста» он перевести не смог бы. В данном случае произошло счастливое совпадение творческих индивидуальностей.
– Бытует мнение, что прозу переводить намного легче, чем поэзию, и за перевод художественной прозы в последнее время часто берутся люди, не имеющие профессионального образования, порой плохо знающие язык.
– На первый взгляд прозу переводить легче: достаточно быть грамотным человеком и знать иностранный язык. Но простота эта кажущаяся. Переводчик обязан чувствовать переводимый материал, как музыкант чувствует исполняемое произведение. В противном случае выходит мертворождённый текст, лишь внешне похожий на оригинал, но по сути не являющийся художественным переводом. А иногда возникают просто чудовищные ляпы.
– За истекшие без малого два десятилетия наш книжный рынок оказался заваленным низкопробной бульварной литературой, да и качество переводов оставляет желать лучшего. Что, с вашей точки зрения, послужило причиной столь резкого снижения уровня переводной литературы?
– Причин несколько. Назову одну из важнейших: исчез институт редакторов, высококвалифицированных специалистов в области русского языка и литературы. И как следствие – неуклонное снижение качества переводов. Новое поколение переводчиков, пришедшее в литературу в постсоветский период, оказалось неподготовленным к выполнению столь высокой миссии, как пересадка на русскую почву лучших образцов зарубежной литературы. Даже самые талантливые из них допускают такие элементарные ошибки, на которые в прежние времена указал бы любой квалифицированный редактор. Певцу мало иметь голос, надо его ещё поставить, чтобы выйти на профессиональную сцену, а для этого пять лет учатся в консерватории. Переводчику мало иметь талант – необходимо пройти хорошую школу под руководством опытных мастеров, чтобы освоить все нюансы этой профессии. Порой на это уходят годы.
– А как в постсоветский период складывалась журнально-издательская судьба переведённых вами произведений?
– Непросто. Но тем не менее кое-что удалось. Я открыл для русского читателя великолепного венгерского прозаика Антала Серба. Его романы «Призраки замка Пендрагон» и «Ожерелье королевы» вышли в 1993-м в СПб отделении «Художественной литературы». В 1997-м питерское издательство «Мир и семья» выпустило объёмный роман Ж. Харшаньи «Грёзы любви» (о жизни Ференца Листа). А журналы «Нева», «Звезда» и «Костёр» уже в начале ХХI века опубликовали стихи и новеллы венгерских авторов.
– В последнее время вы много работаете для театра, перевели ряд пьес венгерских авторов, и они теперь с успехом идут в театрах нашего города. Например, мы с дочкой побывали на спектаклях «Щенок по кличке Блюз» в Театре марионеток им. Деммени и «Ловушка великого Кота-мага» в Большом театре кукол. Эти добрые и трогательные пьесы о дружбе и любви вызывают большой интерес у детской аудитории. Планируете ли вы перевести ещё что-нибудь для детей?
– С автором этих пьес Дюлой Урбаном меня связывает творческая дружба с 1974 года, когда я впервые побывал в Венгрии. (Надо сказать, что на данный момент он один из самых востребованных европейских драматургов, пишущих для детского театра: его пьесы идут во многих странах Европы и Латинской Америки.) Я перевёл на русский язык практически всё, что он написал, и эти пьесы играют уже 35 театров России и ближнего зарубежья. А недавно он пообещал прислать мне свою новую пьесу, так что, как говорится, продолжение следует.
– А теперь о главном событии: о присуждении высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» спектаклю Театра музыкальной комедии «Весёлая вдова» по оперетте Ф. Легара с вашим русским текстом.
– Об этом хотелось бы сказать особо. Ведь это событие, свидетельствующее о возрождении нашего знаменитого Театра музыкальной комедии, пережившего очень трудные времена. Это возрождение стало возможным благодаря воистину титаническим усилиям выдающегося режиссёра А.А. Белинского, несколько лет возглавлявшего театр, и нового генерального директора Ю.А. Шварцкопфа. Руководство театра заключило долгосрочный договор с Будапештским театром оперетты, и несколько последних спектаклей, в том числе и «Весёлая вдова», появились в результате плодотворной работы всемирно известных венгерских режиссёров с нашими талантливыми актёрами. И петербуржцы, каждый раз до отказа заполняющие зрительный зал, уже по достоинству оценили эту работу. А теперь пришло и официальное признание.
– И в заключение традиционный вопрос: ваши творческие планы?
– Они связаны с театрами. Недавно в моём переводе вышли отдельными книжками две комедии Ш. Шульца и очень интересная пьеса М. Хубаи «Куда девался Призрак розы» («Нижинский»). Сейчас работаю над переводом либретто классической оперетты «Стародавнее лето» (музыка Л. Лайта), которая намечена к постановке в нашем Театре музыкальной комедии.
Беседу вела заслуженный работник культуры РФ
