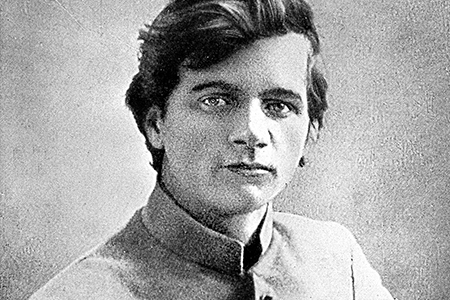Об Андрее Платонове писать нелегко. Тут налицо сразу несколько трудностей.
Одна из них заключается в том, что за последние полвека о Платонове написаны тысячи, десятки тысяч страниц – кажется, что его тексты исследованы до самой последней запятой, помещены в самый широкий контекст, его идеи дотошно проанализированы, его уникальность выявлена… И вместе с тем есть стойкое подозрение, что все эти умные и, видимо, полезные слова летят как-то мимо цели. Платонов остаётся загадкой на поле мировой литературы и – шире – самой жизни. Что в этой ситуации могут добавить ещё несколько сотен слов, тем более юбилейных, то есть по определению апологетических, неточность которых ощущается с почти физической болью?
Другая трудность – обилие мифов, сложившихся вокруг Платонова: биографических, социальных, философских, любых. В общем-то ситуация хорошо знакомая; всякий крупный писатель, подавляющий своей огромностью, как бы понуждает нас заключить его в мифологический памятник: так проще. С этими мифами нужно разбираться, не забывая о том, что сам по себе миф есть порождение читательского восприятия, способ оценки. Вот, например, известнейший миф: Платонов, работающий дворником в Литературном институте и по нищете своей «стреляющий» папиросы у студентов. Давно выяснено, что никаким дворником писатель не работал. Жил в литинститутском флигеле – да, это факт. Быть может, с лопатой иногда выходил, чтобы убрать снег у дверей. Быть может, закурить просил. Но откуда же дворник? Между тем этот миф – прекрасная характеристика того, как публика относилась к изгнанию писателя из литературы после разгромной критики его рассказа «Возвращение», обрушившейся на Платонова в 1946 году. По сути, констатация неправедности этой критики и того, что за ней последовало.
Впрочем, указанные трудности – не самые большие. А самая большая вот какая. Есть ощущение платоновского мира как приближения к тому, чему нет названия. Это не мысли даже, потому что «мыслить» о Платонове – нецеломудренно. Просто есть книги, внушающие тревогу. Их трудно перечитывать – они несут с собой «момент ясности», они мешают, по большому счёту, жить «нормально», немучительно. Таков Платонов. Его хочется «обойти». Однако если попадаешь в него, то уже не выбраться – возвращения неизбежны. Вся проблема – в формулировках, законченных оценочных суждениях, которым платоновские тексты яростно сопротивляются.
Платонов писал в статье «Пушкин – наш товарищ»: «В чём же тайна произведений Пушкина? В том, что за его сочинениями – как будто ясными по форме и предельно глубокими, исчерпывающими по смыслу – остаётся нечто ещё большее, что пока ещё не сказано. Мы видим море, но за ним предчувствуем океан». Но это ведь и нём – об Андрее Платонове.
Как встречаются с Платоновым? Прекрасно помню первую платоновскую книжку, случайно попавшую мне в руки в отрочестве, это был сборник «Происхождение мастера», выпущенный в 1970-е годы Кемеровским книжным издательством. Всё начинается с удивления – таких людей нет, так нельзя разговаривать, так нельзя писать. «Неправильная» литература. Всё начинается с какой-нибудь «ширинки» кавалера, в которую льёт слёзы тоскующая от любви к уехавшему мужу Фро. «Остранение» работает, вызывает улыбку, интерес. На смену забавному первоначальному очарованию позже, с взрослением, приходит великое потрясение. Тут главное – не поддаться соблазну интерпретаторства. А почувствовать прозу Платонова как уникальный мир, более других, быть может, выразивший тайную душу мироздания. «Стереть случайные черты». Вырваться из плена «видимостей». Воспринять трудную мысль.
У Платонова все персонажи думают. Всё время думают, но это очень непривычные думы, особенно у стариков и детей. Нет, сократим – особенно у детей. И это – продолжение неустанной мысли автора, ищущей добраться до «сокровенного» человека. Когда читаешь записные книжки Платонова, поражаешься его бессонной, упорной мысли – она не знает отдыха, не знает сна. Она отрезвляет, беспокоит, не позволяет лениво утвердиться на предлагаемых нынешними проповедниками потребления нехитрых и вместе с тем лукавых рецептах жизни. Устав от автоматизованного письма современной литературы, как хорошо окунуться в невозможную стилистику Платонова, смывающую удобную «незрячую» пелену с разума.
Искажённая грамматика Платонова – это (как верно заметил Иосиф Бродский в своём послесловии к «Котловану») не изысканное стилистическое гурманство, что отличает его от тех же Бабеля, Олеши, Пильняка и иных кумиров 1920–1930-х годов. В платоновском мире нет разделения на стиль, личность автора, идеологию. Этот мир синтетичен. Тут всё без игр, без подмигиваний, без эстетических поз, тут всё по-настоящему, о самом «последнем», о любви, смерти, «веществе существования». Это – именно что способ мысли, неотменимая уже форма ответа на «последние» вопросы о смысле человеческой жизни. Или попытки ответа.
Любой крупный художественный мир не есть нечто окаменевшее в горних высотах, это прежде всего динамическое целое, эволюция, движение. Мир Платонова – не исключение из этого правила. Мы знаем о раннем революционном романтизме Платонова («Христос-бунтарь – наш друг»), о его своеобразном технократизме; мы знаем о воздействии на него идей Николая Фёдорова («умирает один – мертвеют все»); мы знаем о его социальной сатире, и именно она в читательском сознании нынче более всего ассоциируется с именем писателя, что не кажется справедливым… Но мне милее его поздние вещи – рассказы из сборника «Река Потудань» (1937 год), военные рассказы, «Возвращение»… Их я перечитываю чаще, не дерзая выстраивать концептуальные формулы, но в который раз веря Платонову – смерть преодолима, а истинная любовь это не вполне то, что мы этим словом называем.
Давно уже общим местом стало утверждение о непереводимости Платонова на иностранные языки. Это так, что, впрочем, не помешало Хемингуэю, прочитавшему рассказ «Третий сын» (тот был в 1937 году переведён на английский язык и опубликован в американской антологии короткого рассказа), назвать Платонова одним из немногих писателей, у которых нужно учиться.
На самом деле всё еще сложнее – Платонов непереводим не только на иностранные языки, но и на другие языки культуры: язык живописи, язык музыки, язык кино. Он остаётся живым исключительно в словесном пространстве. Особенно много потрудились над «переводом» Платонова киношники – без особых успехов. Разумеется, для экранизаций они выбирали самые «удобные» платоновские произведения. В лидерах тут оказался рассказ «Возвращение», что вполне объяснимо – психологический сюжет и почти сплошной диалог сильно облегчали дело режиссёрам. А финальная «сентиментальная» пробежка детей главного героя была словно специально создана для экрана. Мне известны по крайней мере три такие экранизации – 1968, 1982 и 2007 годов. Но даже в самой ранней из них (не говоря уж о двух других – напрочь интерпретационных), в точности повторяющей сюжет и диалоги рассказа, платоновский мир не сохранился, Платонова там нет. Дело не спасают ни старательность режиссёра, ни прекрасные актёры (в том числе тридцатилетняя Лия Ахеджакова, играющая одиннадцатилетнего сына капитана Иванова), ни даже предсказуемо выбивающая у зрителя слезу заключительная сцена. Остаётся не более чем «история».
И, чтобы понять, о чём «в высшем смысле» этот рассказ, нам приходится вновь погружаться в стихию платоновского языка.
«Петрушка и Настя бежали далеко позади поезда по песчаной дорожке возле рельсов; Петрушка по-прежнему держал за руку маленькую Настю и волочил её за собою, когда она не поспевала бежать ногами. Иванов кинул вещевой мешок из вагона на землю…» Возвращение Иванова свершилось, но платоновские дети, которые, вспомним «Котлован», приходят, «чтобы весь свет окончить» (то есть «разрешить»), по-прежнему бегут со своим всеведущим знанием за нами, а мы уходим от них, уезжаем на машинах и поездах, улетаем на самолётах, уплываем на кораблях, лелея собственную взрослую жизнь – такую привычную и такую бессмысленную. Догонят ли они нас?
Александр Панфилов,
кандидат филологических наук