
Определение «Великого имени России» для аэропорта Храброво обернулось острой общественной дискуссией, которая вышла далеко за границы эксклава. В соцсетях бурно обсуждают голосование, задаваясь вопросом, является ли Иммануил Кант (лидер голосования) «именем России» или всётаки его следует отнести к именам Германии. На этом фоне актуализировалась тема «германизации» Калининградской области: кто-то полагает, что лидерство Канта и есть примета «германизации»; оппоненты предлагают убедительные доводы культурологического свойства.
Безусловно, общественная дискуссия – явление позитивное, элемент «гражданского общества», о котором столько у нас говорят. Прекрасно, что существует возможность высказаться, в том числе и на страницах «ЛГ».
«Западнизм» восторжествует?
Владимир Шульгин,
доктор исторических наук, директор Калининградского отделения Академии геополитических проблем
Наблюдая очередное «кантовское» оживление в преддверии определения имени аэропорта Храброво, вспоминаю пушкинские строки: «…и мрачным ужасом сменённые забавы». Да, забавы с внедрением чужих имён продолжаются. Так дождёмся и ужаса, если не вспомним о чести.
Недавно «хорошо организованное меньшинство» (формула Василия Розанова) неокёнигсбержцев забавлялось, продавливая немецкое название сквера рядом с бывшим Домом культуры моряков. Теперь это Биржевый сквер в честь германской биржи, когда-то помещавшейся в этом здании. Русские варианты – допустим, «Сквер героев-моряков» – не прошли. Этот пример типично показателен. «Перехват» русского имени аэропорта вершится теми же силами по той же «демократической» схеме.
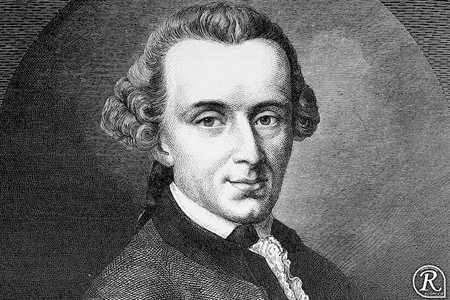
философ Иммануил Кант
Позвонил возмущённый коллега-преподаватель. Он пытался выяснить, почему не отринуто имя немца, который положительно не связан с отечественной историей. Ему ответили, что «Кант имеет право, поскольку четыре года был подданным России» (после кратковременного присоединения края к Русской империи в XVIII в.) Хоть стой, хоть падай от такой просвещённости… Ещё Карамзин учил: «Не формы, а люди важны». Наши же официальные лица продолжают «бюрократствовать», сводя дело чести к бессодержательному формализму.
Между тем ещё в 2005 году нынешний патриарх Кирилл, отвечая на вопрос об уместности присвоения имени Канта местному университету, объяснил: «Кант не деятель русской культуры».
Впрочем, наши власти, кажется, осознают проблему. Губернатор А. Алиханов заявил о наличии в крае агентуры влияния Запада, непрекращающихся попытках навязать жителям Калининградской области некую «особую идентичность», отличную от общероссийской.

Императрица Елизавета Петровна
Полагаю, что история с присвоением нашему аэропорту имени Канта – иллюстрация навязывания этой самой «особой идентичности». Вызывает недоумение позиция местной Общественной палаты, которая (как представляется многим калининградцам) пользуется технологиями «размывания электората». Чтобы победило «немецкое имя» аэропорта, сделано всё для столкновения двух равновеликих героических имён – маршала Василевского и генерала Черняховского, а тут ещё в списке и наша же царица Елизавета Петровна. Не будь чуждого кандидата – Канта, по праву названного Марксом автором «немецкой теории Французской революции», то оно бы и ничего, – мирное соревнование «между своими». В нашем же случае применён «политтехнологический» приём.
Конкурс «Великое имя России» широко обсуждается в наших краях, калининградцы живо делятся «вестями с фронта», радуясь, что «Елисавет, побившая Фридриха», приближается по числу голосов к Канту…
Почему мы голосуем за Канта
Валерий Рокотов,
писатель, драматург, уроженец Советска Калининградской области
Понять, почему калининградцы голосуют за Канта, просто. Нужно сесть в машину времени, вернуться на полвека назад и прожить их на нашем берегу Балтики. Тот, кто не родился среди развалин из красного кирпича, не жил среди готических шпилей, никогда не поймёт здешнего, особого чувства родины.
Калининградская область – не просто остров, отделённый от России двумя государствами. Это уникальный клочок земли, где всё напоминает об исторических драмах: пришествии крестоносцев, падении рейха, выселении немцев, тёмном времени в подчинении Литовского совнархоза и крахе советской цивилизации, поднявшей этот край из руин. Здесь всё перемешалось как в архитектуре, так и в сознании. И немецкое, и советское прошлое уже представляют собой что-то породнённое трудами и катастрофами. В толпе ушедших поколений уже никто не чужой. Здесь в готических храмах вполне себе прижилось православие. А музеи собирают немецкие и советские артефакты. Здесь русскость исполнилась сострадания к утраченным памятникам, былой красоте городов, и старые довоенные фотографии наполняют наши души волнением, которое приезжему непонятно. Он смотрит на эти снимки с прохладцей, а у нас всё трепещет внутри, потому что на них – наши улицы, церкви, дома, земляки.

генерал армии Иван Черняховский
Всё это слилось в уникальном явлении, которое я называю Кёниг-патриотизмом. Это чувство, соединившее, казалось бы, несоединимые вещи. «Тридцатьчетвёрки» на постаментах, памятники Черняховскому, Шиллеру, разведгруппе «Джек», королеве Луизе, советские типовые скульптуры и памятные кресты на немецких погостах –
всё это как-то трудно срослось в сознании, устаканилось, стало своим. Двойные названия городов, звучащие в речи (Советск – Тильзит, Балтийск – Пиллау и так далее), привычное слово «Кёниг» применительно к Калининграду – это не признаки онемечивания, как кому-то мерещится. Это совершенно другое.
Онемечивание здесь в принципе невозможно. Особый кайф от ощущения себя русскими препятствовал и препятствует влиянию извне. «Кёниг-патриотизм» порождён достаточно борзым сознанием. Поговорите с калининградцами. У них отсутствуют комплексы. Здесь каждый, кто «предъявляет», будет послан по адресу. Ему заявят: не мы войну начали, и нам эта земля не на халяву досталась. В неё легли тысячи наших солдат. Романтики, рванувшие в регион с надеждой всех здесь построить и онемечить, быстро ощутили, что происходит нечто обратное. Рассказы о том, как они слились с местными ландшафтом и социумом, постоянно циркулируют в застольных беседах.
Сознание калининградцев уникально. Оно оборонительно-наступательное. В тяжелейшие годы заброшенности, когда соседи лаяли как собаки, а Москва не спешила проявить волю, здесь люди остро прочувствовали: у слабого друзей нет. Это стало установкой для всех, кто нацелен на жизнь. Поэтому забрать что-то у местных не выйдет. Это относится как к материальной собственности, так и к нематериальной. Всё, что культура, мысль человеческая на этой земле создали за века, наше. Хочешь отнять – можешь рискнуть здоровьем.
Жестяная реальность и мешанина в сознании породили особое чувство юмора. Оно сформировалось, потому что требовалось снимать напряжение, всё как-то соединять, устаканивать. Здесь принято говорить наоборот. Если кого-то характеризуют непьющим, это значит, что он не просыхает совсем. Если кого-то называют честнягой, это значит, он взяточник, вор и прохвост. Здесь «громила» – хлюпик, а «умный» – тупица. И наоборот. Здесь родился особый юмористический жанр – «пурга». Человек, который несёт «пургу», здесь всегда привлекал пристальный интерес. Поэтому переезд в Калининград Гришковца абсолютно неудивителен. Его затянула родственная стихия.
Вся эта сложность, особость отражается в идущем голосовании. Большинство хочет Канта, и не только потому, что он местный, «наш». Не только потому, что он уже давно Иммануил Иванович Кант. И не только потому, что Кант – фигура консенсусная, не вызывающая сомнений. Почитая Канта как земляка, ты адресуешься к лучшему в истории края.
Кант всегда воспринимался как центральная точка области. Всё культурное движение, бегство из маргинальности, личное восхождение были и остаются связанными с этой точкой – кафедральным собором и портиком с могилой философа. Он давно стал главным символом края. Мы с детских лет приходим туда как к месту, где почти физически ощущается трансцендентальное.
Наша русскость от этого не страдает. Она только исполняется высоты. ′
