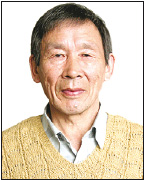
Иван Омрувье мальчишкой оказался свидетелем величайшего перелома в жизни своего народа. На протяжении нескольких столетий его предки кочевали в верховьях Хатырки по Вилюйской тундре. Потом пришла новая власть, посулившая лучшую жизнь. Но многие обещания исполнены не были. Более того, после войны у чукчей попытались изъять из личного пользования всех оленей. Тундровики взроптали, и в 1949 году часть из них подняла бунт, который власть потопила в крови. Обо всём этом Иван Омрувье потом рассказал в своей повести «Потомки чаучу», которая во многом благодаря талантливому переводу Шарля Венстена теперь популярна во Франции и в меньшей степени, ввиду отсутствия качественного переложения, известна русскому читателю.
Сегодня Иван ОМРУВЬЕ в гостях у «ЛГ».
– В каком состоянии находится современная чукотская литература? Некоторые критики полагают, что после ухода Юрия Рытхэу в лучший из миров она пребывает в упадке. Так ли это?
– Чукотская литература, я бы сказал, пока что находится в состоянии полудрёмы, хотя в последние годы она чуточку просыпается. Через каждые два года проходят конкурсы имени Юрия Рытхэу, и в это время мы как бы «оживаем». Сказать, что мы находимся в упадке, – наверное, не совсем правильно. Авторы есть и они пишут, но не печатаются. На мой взгляд, нужно создать специальный фонд помощи Чукотскому отделению Союза писателей России. В этом случае можно будет кого-то печатать здесь или в Москве.
– Кстати, как лично вы относитесь к творчеству Рытхэу?
– К Рытхэу отношусь весьма положительно. Он – великий чукотский писатель. А если мы россияне, то он – и известнейший российский писатель. Если бы не он, то мир бы знал чукчей только по Сёмушкину, по Шундику, по Богоразу и другим литераторам-чукчам. Благодаря Рытхэу мир знает о народе моём.
– Лучшая ваша повесть была обращена к трагическим событиям 1949 года, к восстанию чукотских оленеводов в Хатырской тундре. Почему вы обратились к тем событиям? Всё ли мы теперь знаем о том восстании? Или остались какие-то тайны?
– Повесть «Потомки чаучу», возможно, не самая лучшая, иначе дальше можно будет не писать. А ведь сколько ещё не сказанного, не изведанного, не раскрытого! А главное – надо попытаться передать мироощущение коренного человека. Кто он на самом деле? Почему он так дышит и говорит, а не иначе? Это очень трудно художественно оформить, не каждый сможет. Но надо нам учиться, проводить семинары, властям и общественности больше внимания обращать на пишущую братию. Теперь о Березовском восстании (или мятеже?). Конечно же, многое осталось за кадром. Почему к этой теме обратился? Потому что в этом событии непосредственное участие принимали мои ближайшие родственники. Они были истинными хозяевами огромных стад, создавали их своим упорным, ежедневным трудом. А тут – раз и вступай в коллективное хозяйство, отдай другому то, что ты создал! Зачем?! Кто так делает?!
– Можно ли говорить о том, что у чукчей сформировался единый литературный язык, вбирающий в себя лексику как оленных, так и береговых чукчей?
– Сегодня нельзя говорить о том, что у чукчей сформировался единый литературный язык, вбирающий в себя лексику как оленных, так и береговых чукчей. У нас живёт и работает Валентина Вэкэт, прекрасно знающая язык береговых чукчей. Она – член Союза писателей России, лауреат литературной премии имени Юрия Рытхэу. Несмотря на возраст, Валентина Кагьевна много пишет и кое-что печатает, если на то имеются какие-то средства. Я пишу об оленных людях, есть несколько вещей не напечатанных. Есть молодые авторы – в основном поэты, но и они пока что только высветились в литконкурсе имени Рытхэу. Пишут на чукотском. Найдутся и другие интересные авторы.
– Над чем вы работаете?
– Я взялся за третью часть книги об оленных людях. Первая часть – это «Потомки чаучу», вторая часть – «Рэмкилин», а третью только начал. Параллельно пытаюсь начать повесть о чукотском Мюнхгаузене – Маралькоте, который, кстати, был главным героем моей небольшой повести «Летние сутки пастуха Маралькота», напечатанной в газете «Крайний Север» и во французском издательстве.
Беседу вёл Вячеслав КАЛМЫКОВ
