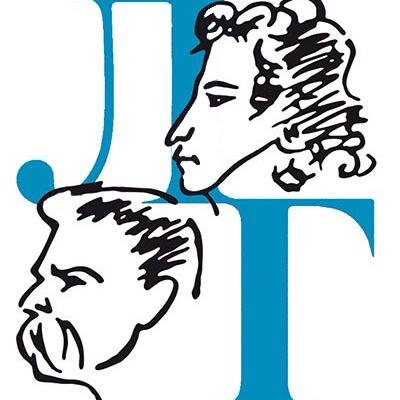О начале новой войны он узнал в подмосковной деревеньке Грязи, где, по воспоминаниям поэта, «только что устроился… с надеждой на доброе работящее лето со своими бумагами и тетрадками».
Потом он с редкой подробностью опишет «это тихое, деревенское, немного даже печальное место» – старые «щеповатые» крыши соседних изб, видневшиеся за окном, и небольшую ёлочку над огородом, почти как в родном Загорье, и долгую, но очень красивую дорогу по воду, к ключу, осенённому ивами и берёзами.
Опишет, уже зная, что страшный вал вражеского нашествия докатился и туда, смял и уничтожил жителей и всю эту красоту: «На снимке ничего узнать нельзя: какие-то пожарища, торчаки обгорелых и полуобвалившихся печных труб – то есть то, что сливается с тысячами подобных картин, виденных в натуре…» – за годы последующей кочевой жизни военного корреспондента.
Назначенный, как гласило командировочное предписание, «литератором газеты редакции Киевского Особого военного округа», Александр Трифонович выехал туда и на какой-то станции столкнулся с волнами огромного народного бедствия. «…Поле, – вспоминал он, – было покрыто лежавшими, сидевшими, копошившимися на нём людьми с узелками, котомками, чемоданами, тележками, детишками. Я никогда не видел такого количества чемоданов, узлов, всевозможного городского домашнего скарба, наспех прихваченного людьми в дорогу… Поле гудело. И в этом гудении слышалась ещё возбуждённость, горячность недавнего потрясения и уже глубокая, тоскливая усталость, онемение, полусон, как раз как в зале забитого до отказа вокзала ночью на большой узловой. Поле поднялось, зашевелилось, тронулось к полотну дороги, к поезду, застучало в стены и окна вагонов, и казалось – оно в силах свалить поезд с рельсов».
«…Поле, – вспоминал он, – было покрыто лежавшими, сидевшими, копошившимися на нём людьми с узелками, котомками, чемоданами, тележками, детишками. Я никогда не видел такого количества чемоданов, узлов, всевозможного городского домашнего скарба, наспех прихваченного людьми в дорогу… Поле гудело. И в этом гудении слышалась ещё возбуждённость, горячность недавнего потрясения и уже глубокая, тоскливая усталость, онемение, полусон, как раз как в зале забитого до отказа вокзала ночью на большой узловой. Поле поднялось, зашевелилось, тронулось к полотну дороги, к поезду, застучало в стены и окна вагонов, и казалось – оно в силах свалить поезд с рельсов».
А рядом с этим ошеломительным впечатлением было иное, тоже надрывавшее душу болью, жалостью, состраданием – и в то же время являвшее собой силу и красоту человеческого духа. Нарушив все запреты, поэт со спутниками втянули в вагон женщину с детьми и были совершенно поражены и растроганы тем, что, кое-как устроив измученных, сразу уснувших ребятишек, она «не только не жаловалась на судьбу, но всячески старалась, чтобы люди, не видевшие, не испытавшие того, что уже довелось ей, не были слишком потрясены», и чуть ли не утешала их, убеждая, что у неё всё уладится.
«Как будто в образе этой маленькой матери-беженки первых дней войны, – писал Александр Трифонович, – дано было увидеть нам всё величие женского, материнского подвига в этой войне…» И не первый ли это был смутный проблеск образа героини поэмы «Дом у дороги» с её ещё более трагической судьбой?!
Добираясь до места назначения, Твардовский сразу получил свою долю того, что обрушилось на страну и народ. Бомбёжки, часто почти непрерывные, во время одной из которых лишь чудом уцелел. Разгром Днепровской военной флотилии. В позднейшей повести сотрудника газеты «Красная армия», где стал работать и поэт, Виктора Кондратенко «Без объявления войны» кратко упомянуто о встрече с вернувшимися с кораблей украинским писателем Саввой Голованивским и Твардовским и о горькой шутке Александра Трифоновича: «Планшеткой голову от бомб прикрывал. Помогло». Последние встречи с товарищами – Аркадием Гайдаром и Юрием Крымовым (один вскоре погиб, другой пропал без вести).
Уж, кажется, было «хвачено горячего» позапрошлой зимой, но – «это не Финляндия», как скупо и многозначительно сказано в письме жене. Поэт даже вызвал недовольство главного редактора «невыполнением боевого задания»: «В первой поездке я с непривычки (потому что ничего подобного не видел в Финляндии) немного опешил и вернулся без единой строчки».
На снимке, сделанном после выхода из окружения под Каневом (шевченковские места, два года назад шумные от торжеств в честь Тараса, чьи стихи Твардовский тогда с увлечением переводил), Александр Трифонович сидит, прислонясь к дереву, задумчивый, даже сумрачный. Как будет сказано в «Василии Тёркине»: «Что он думал, не гадаю, что он нёс в душе своей…» Может быть, что-то похожее на записанное в тогдашнем черновике, – по словам поэта, «наброске осеннем, под живым впечатлением «окруженческих» рассказов»:
Быть может,
кто-нибудь иной
Расскажет лучше нас,
Как тяжко по земле родной
Идти, в ночи таясь…
«Не в письме, – сообщается жене в эту пору, – рассказывать о том, что довелось видеть и т.п. при совершении «драп-кросса» из Киева. Не все мы вышли. Много осталось где-то в лесах, а то и в плену или убитыми и ранеными. Но ничего. Немцев побьём-таки, в этом я уверен, несмотря на все горькие и обидные вещи, которые приходилось наблюдать…»
Пришёл черёд оставить Харьков, редакция перебралась в Валуйки, потом в Воронеж.
Уже в следующий раз, после вышеупомянутой осечки, Твардовский вернулся из поездки с «богатым материалом». Возможно, он считал это своим «первым боевым днём» (так назван один из июльских очерков). «Я пишу довольно много, – говорится в августовском послании в далёкий Чистополь, куда была эвакуирована Мария Илларионовна с детьми. – Стихи, очерки, юмор (многочисленные фельетоны о подвигах «донского казака Ивана Гвоздева. – А.Т-в), лозунги и т.п.» И чуть позже: «Если исключить дни, когда в поездках, то на каждый день приходится материал».
И хотя у поэта «всё-таки есть чувство, что нечто для родины в такие трудные (небывало трагические) для неё дни делаешь и ты», он со всё обостряющейся совестливостью терзается тем, как неизмеримо это с лежащим на солдатских плечах:
«Мы живём по обочинам войны. Мы быстренько подъезжаем к тем ямочкам и окопчикам, в которых сидят воюющие люди, быстренько расспрашиваем их, прислушиваясь к канонаде и невольно пригибая голову, когда свистит мина. А потом, провожаемые незабываемыми взглядами этих людей, убираемся восвояси…»
Ощущение великой трудности происходящего передано уже в первых стихах поэта этих месяцев:
Да, всё иначе на войне,
Чем думать мог любой,
И солью пота на спине
Проступит подвиг твой.
Щетиной жёсткой бороды
Пробьётся на щеке
И кровью ног босых следы
Отметит на песке…
(«Сержант Василий Мысенков»)
Однако по всем тогдашним обстоятельствам – не только по загруженности газетной подёнкой, но и по тяжёлому положению на фронте, огромности жертв и потерь, невозможности усугублять и без того невероятное напряжение человеческих душ – Твардовский, по собственному признанию, и «десятой доли» того, что испытал, видел, слышал, думал, ещё не мог выговорить, «выписать» в своих стихах.
«...Пока что, – делится он с Марией Илларионовной в тяжелейшие дни, 12 октября 41-го, – я должен находить в себе силы для ободряющего слова, это слово, которое либо заключённой в нём доброй шуткой, либо душевностью своей согревает чуть-чуть, расшевеливает то инертное, тягостное безразличие, которое незаметно уживается в сознании усталого от боёв и тягот человека. А каких слов он стоит, этот человек!»
Ещё в написанной по следам Финской кампании и напечатанной во время короткой передышки между войнами (6 ноября 1940) «тёркинской» главе «Гармонь» картина весёлой пляски сопровождена примечательной оговоркой:
И забыто – не забыто,
Да не время вспоминать,
Где и кто лежит убитый
И кому ещё лежать.
Вставала неразрешимая, казалось бы, дилемма – возможно ли сочетать ободряющее слово и добрую шутку с таким честным изображением войны, которое в основном и главном совпадало бы с её восприятием самими воюющими людьми, столько уже испытавшими и пережившими, и сделало бы из тебя не мимолётного визитёра, а постоянного собеседника и друга?
Между тем писать «по-гвоздевски» или в духе казённого оптимизма под «незабываемыми взглядами этих людей» становилось, как признавался поэт, невмоготу.
В связи с этим возникают конфликты в редакции. «Чтоб иметь успех и прочее, – поясняет Александр Трифонович жене, – нужно писать так, как я уже органически не могу писать». Несмотря на все возникшие неприятности, он принял дерзкое решение: «Больше плохих стихов писать не буду, – делайте со мной что хотите… Война всерьёз, поэзия должна быть всерьёз».
Весной сорок второго года, откомандированный из газеты и не зная, к добру это или к худу, Твардовский приехал в Москву и здесь вернулся к оставленному с началом войны «Тёркину». Подо всеми ходившими над головой тучами (присланная из редакции характеристика, скорее напомнившая донос, тягостные объяснения) он целиком погрузился в эти тетрадки. «Я желаю одного, – говорилось в письме жене, – месяца, двух недель, недели сосредоточенной работы, а там хоть на Сахалин».
Уже появляются строки, очень похожие на те, что войдут в будущую книгу, – о том, что на войне как без пищи не прожить без прибаутки. Но в этих ранних набросках ещё нет ставших знаменитыми и поистине «программными» – не только для рождавшейся «Книги про бойца», но и не для всего ли дальнейшего творчества поэта – слов, выразивших его цель, задачу, мечту (тут все слова – к месту!):
А всего иного пуще
Не прожить наверняка –
Без чего? Без правды сущей.
Правды, прямо в душу бьющей,
Да была б она погуще,
Как бы ни была горька.
Слово было найдено, произнесено. И работа пошла! Черновые наброски быстро преображались в такие основополагающие главы книги, как «На привале», «Переправа», а также некоторые другие, пополнившиеся совсем новой, вобравшей драматические впечатления минувшего лета – «Перед боем».
«Когда я отделывал «Переправу», – писал поэт жене 27 июня, – ещё не знал, что впрягаюсь в поэму, и потом всё сильнее втягивался, и вскоре у меня уже было такое ощущение, что без этой работы мне ни жить, ни спать, ни есть, ни пить».
Случилось так, что первые главы поэмы-книги появились в печати в сентябре, в труднейший, трагичнейший час войны, когда враг рвался к Волге, и почти совпали по времени со знаменитым сталинским приказом № 227. Это, может быть, облегчило их путь к читателю, поскольку драматизм ситуации побудил и самого автора приказа к необычно горькой правде, весьма жёсткой характеристике поистине отчаянного положения, сложившегося на фронте от Сталинграда до Кавказских гор: «Отступать дальше – значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину… Ни шагу назад!»
Но какая огромная разница была между зачитывавшимся в частях, но так и не опубликованным при жизни вождя приказом и тем, что говорилось в «Книге про бойца» (и д л я бойца)!
Приказ Верховного главнокомандующего диктовался суровой военной необходимостью, но вместе с тем нёс черты, вообще присущие его творцу и созданной им системе административно-репрессивного принуждения. Написанный в тоне грубого, оскорбительного окрика на отступающих («покрыв свои знамёна позором»), он изобиловал обвинениями их в «позорном поведении» и даже в «преступлениях перед Родиной».
«Тёркин» же был разговором с солдатами по душам, задуманным автором задолго до грозных событий лета сорок второго, но удивительно пришедшимся к месту в эти тяжелейшие дни.
Мощный и грозный зачин «Переправы»:
Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда…
Кому память, кому слава,
Кому тёмная вода, –
Ни приметы, ни следа –
и страшная картина гибели «наших стриженых ребят» настраивали на мужественное осознание всей трудности борьбы с лютым врагом, неизбежности напряжённых ратных усилий и горчайших потерь.
А картины прошлогоднего отступления перекликались с драмой нового отхода наших войск «во глубину России», и строки: «То была печаль большая, как брели мы на восток», отзывались в читателях свежей острой болью.
Вышло так, что, нимало не задаваясь этой целью (тем более что начал писать «Тёркина» до названного приказа), поэт, в сущности, вступал в полемику с ним. Много позже, уже на пороге Победы, Твардовский припоминал злоключения рядового бойца в первые годы войны:
Приходилось парню драпать,
Бодрый дух всегда берёг,
Повторял: «Вперёд, на запад»,
Продвигаясь на восток.
Между прочим, при отходе,
Как сдавали города,
Больше вроде был он в моде,
Больше славился тогда.
И по странности, бывало,
Одному ему почёт,
Так что даже генералы
Были будто бы не в счёт.
Срок иной, иные даты.
Разделён издревле труд:
Города сдают солдаты,
Генералы их берут.
(«Солдат сейчас не в моде», – сказано и в письме жене 3 июня 1943 года.)
Вряд ли можно предполагать в этих стихах сознательный намёк на давний приказ, но, даже помимо авторской воли, стрела этой горькой и гневной иронии угодила куда выше, чем непосредственно метил поэт.
В самый же разгар отступления он не осуждал, а воистину восславлял простого бойца, подлинного героя и вместе с тем великого мученика войны, который с лихвой расплачивался не только за собственные промахи, неопытность, неумелость, но и за все просчёты, ошибки, даже преступления, совершённые самим Верховным и накануне войны, и в её ходе.
Шёл наш брат, худой, голодный,
Потерявший связь и часть,
Шёл поротно и повзводно,
И компанией свободной,
И один, как перст, подчас.
Т а к о г о солдаты о себе ещё не читывали! Это был на редкость реалистический портрет многомиллионного «адресата» гневливого сталинского приказа:
Шёл он, серый, бородатый,
И, цепляясь за порог,
Заходил в любую хату,
Словно чем-то виноватый
Перед ней. А что он мог!
Герой книги – из тех, кто «дорогою постылой» отступления прошёл «в просоленной гимнастёрке сотни вёрст земли родной».
Увы, «Василий Тёркин» долго казался части коллег автора, критиков и читателей просто весёлой и даже незатейливой историей бывалого и удачливого солдата. Искренняя и страстная почитательница Анны Ахматовой, Л.К. Чуковская горестно засвидетельствовала её сказанные «с неприятной… презрительностью» слова: «Тёркин»?! Ну да, во время войны всегда нужны лёгкие солдатские стишки» (другую же великую поэму, «Дом у дороги», она, по убеждению Лидии Корнеевны, и вовсе не читала, думается, как и большинства глав «Книги про бойца»). В полном согласии с ней и Иосиф Бродский говорил о «плясовой» «Тёркина». Что это за «лёгкие стишки» и «плясовая», мы уже частично видели, а стоит перечитать «Бой в болоте», «Смерть и Воин», «Про солдата-сироту» – и ничего от этих высокомерных приговоров не остаётся.
Только на самый поверхностный взгляд герой «Книги про бойца» мог показаться чуть ли не двойником своего предтечи – Васи Тёркина, лубочного персонажа, в создании которого в Финскую кампанию Твардовский принял очень малое участие.
Зато теперь, как в подобных случаях уже бывало в литературе, поэт решительно «присвоил» его и претворил совсем в иную фигуру, несравненную по глубине проникновения в характер и судьбу героя.
В а с я был «богатырь, сажень в плечах», расправлявшийся с противником запросто: «врагов на штык берёт, как снопы на вилы».
В а с и л и й же – «парень сам собой… обыкновенный», «не высок, не то чтоб мал» и никаких умопомрачительных подвигов не совершает.
Однако, утратив богатырские стати, новый Тёркин «не прогадал»: душа у него богатырская, щедрая уже не только на удалую выходку и лихое словцо, но чем дальше, тем чаще проникновенно отзывающаяся на всё происходящее – на «всю огромность грозных и печальных событий войны», говоря словами поэта.
В статье мирных лет «Как был написан «Василий Тёркин» сказано:
«Я недолго томился сомнениями и опасениями относительно неопределённости жанра, отсутствия первоначального плана… слабой сюжетной связанности глав между собой. Не поэма – ну и пусть себе не поэма, решил я; нет единого плана – пусть себе нет, не надо; нет самого начала вещи – некогда его выдумывать; не намечена кульминация и завершение всего повествования – пусть, надо писать о том, что горит, не ждёт, а там видно будет, разберёмся. И когда я так решил, порвав все внутренние обязательства перед условностями формы и махнув рукой на ту или иную возможную оценку литераторами моей работы, – мне стало весело и свободно».
С в о б о д а – второе после п р а в д ы ключевое слово, определившее звучание книги и её успех у самых разных читателей.
Впоследствии, уже по завершении книги, Твардовский вернётся к этим размышлениям:
«Каково бы ни было её собственно литературное значение, для меня она была истинным счастьем. Она дала мне ощущение законности места художника в великой борьбе народа, ощущение очевидной полезности моего труда, чувство полной свободы обращения со стихом и словом в естественно сложившейся непринуждённой форме изложения».
Но не менее важно, что этой, так сказать, профессиональной свободе предшествовала – и обуславливала её! – свобода самогó взгляда на жизнь, страстный, самозабвенный порыв к художественному воплощению правды о войне, обо всём, что она принесла с собою, что открыла, о чём заставляла задуматься.
И как знаменательно, что в самом, может быть, драгоценном для поэта отзыве на «Книгу про бойца», дошедшем до него уже после войны из парижского далека, – письме одного из любимейших авторов Александра Трифоновича и чрезвычайно взыскательного судьи – звучат те же «мотивы»:
«…Я только что прочитал книгу А. Твардовского («Василия Тёркина»), – говорится в письме Ивана Алексеевича Бунина старому другу Н.Д. Телешову, – и не могу удержаться – прошу тебя, если ты знаком и встречаешься с ним, передай ему при случае, что я (читатель, как ты знаешь, придирчивый, требовательный) совершенно восхищён его талантом, – это поистине редкая книга: какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всём и какой необыкновенный, народный, солдатский язык – ни сучка ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, то есть литературно-пошлого слова».
Вернёмся ещё раз к словам поэта о том, как он «пускался в путь»: «не поэма – ну и пусть… нет единого сюжета – пусть». Не напоминает ли это нам уже знакомое пушкинское? –
И даль свободного романа
Ещё неясно различал.
Не то же ли испытал Твардовский счастливое ощущение – открывающейся впереди д а л и (одно из слов, которые, подобно «переправе» и «памяти», станут потом вечными спутниками его поэзии) и с в о б о д ы?
Свободы небывалой, подчас прямо-таки трагической, сталкивающей с неведомым, неожиданным, озадачивающим и самого автора.
Помните, какую «штуку удрала» Татьяна своим, не предусмотренным Пушкиным поступком? Вот и Тёркин, хотя Твардовский и предчувствовал ещё в самом начале работы, что «этот парень пойдёт всё сложней и сложней», вдруг оборачивался такими новыми сторонами, которые и не предугадать было.
«Я порой стою, как над пропастью, – признавался поэт жене, – страшно и сладко думать, что ещё удастся в ней («Книге про бойца». – А. Т-в) повысказать».

 Андрей ТУРКОВ
Андрей ТУРКОВ