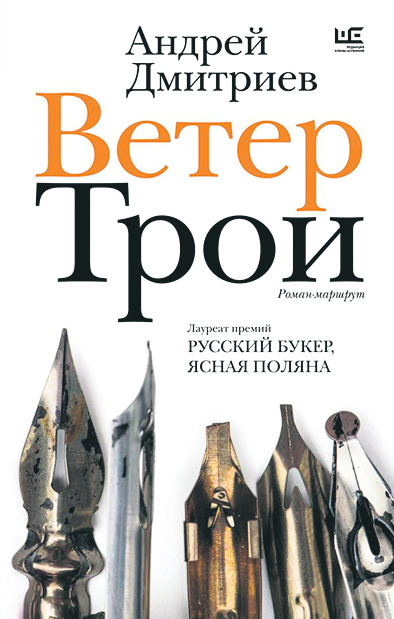
Мария Бушуева
Андрей Дмитриев. Ветер Трои: роман-маршрут. – М.: Издательство АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2024. – 317 с. – 1000 экз. – (Новая русская классика).
Читатели знают, какие темы самые популярные в соцсетях: после кошечек это кулинария (гастрономия), рассказы о путешествиях (часто называемых травелогами), истории о любви, а на десерт что-нибудь занимательно-увлекательное. Всё это есть в изобилии в романе Андрея Дмитриева «Ветер Трои». В качестве десерта – любопытные и важные для идеи романа рассуждения одного из персонажей о том, что «ветры нами управляют». Не думаю, что признанный мастер прозы решил подыграть массовым вкусам. В интервью на сайте АСТ Дмитриев на вопрос, как возникла идея романа, ответил: «Не помню как, но помню где. Зашевелилась она во мне во время путешествия по Турции – мои герои преодолевают тот же маршрут, что и я. А оформилась – уже в Греции, на Корфу». То есть автор побывал в тех местах, которые описал: и если не всегда пробовал, то наверняка интересовался разнообразной турецкой кухней. Удовольствие от путешествия, вероятно, и вызвало географически-гастрономический переизбыток. Такие излишества в описаниях кому-то понравятся, особенно тем, чей путь однажды совпал с траекторией романа, у кого-то, в том числе у критиков, наоборот, вызовет замечания. Так, Алексей Татаринов не без раздражения заметил: «Детали прописаны, как в меню. Достопримечательности, как в турсправочнике» («Родная Кубань»). Татаринов подверг резкой критике и образ главного героя, на котором стоит остановиться подробнее. В «Психологических типах» ныне очень модного, но не всегда читаемого К.Г. Юнга описан интуитивный экстраверт. Это человек, который легко угадывает потенциальные возможности для новой деятельности и так же легко оставляет вполне успешно начатое дело, переключаясь на другое. «Тихонин наспех вдруг сворачивался, собирал манатки и снимался с якоря затем лишь, чтобы непонятно где начать с самого начала непонятно что». Юнг замечал, что для экстравертов-интуитивов характерно постоянное чувство ожидания; их можно найти среди политиков и коммерсантов. Тихонин точно вписывается в такой тип личности, он коммерцией и занимается. А загадка его обаяния, которую пытается разгадать команда рассказчиков, объединённая автором в замятинское «мы», легко объяснима. Обаянием наделяет Тихонина авантюрная искра в характере – один из двигателей успешной коммерции. Привлекает и жизнерадостный темперамент – «он был счастливым по природе», с вечной тягой к движению и переменам: жизнь Тихонина «один сплошной маршрут». Рассказчики убеждены, что устремлён Тихонин к светлой большой любви своей юности, что она и только она – цель его жизни. Героиня его сердца по имени Мария предпочла молодому человеку с сомнительными перспективами американского археолога и уехала с ним в США. Тем не менее судьба её мёдом не кажется: типичная биография эмигрантки, работавшей «в хосписе, недолго, и в пансионе престарелых», где «сиделкой отсидела два года с небольшим, а патронажной сестрой была все пять», и наконец нашедшей себя в качестве служительницы-волонтёра в маленьком приюте для собак. Правда, героиня (или автор) предлагает красивый мотив: героиня работала не ради денег или адаптации, а чтобы «включить в себе» эмпатию. Вообще в романе присутствует смещение в сторону возвышения и эстетизации того, что возвышать и эстетизировать вряд ли бы стоило (к примеру, стоит ли романтизировать сомнительную деятельность Тихонина?).
Тихонин и Мария встречаются через сорок лет разлуки. Проведя с медно-седым любовником несколько дней, героиня вторично его бросает и возвращается в Штаты, к семье. Возможно, долгоиграющих планов она и не строила: скучная жизнь домохозяйки нуждалась в небольшом приключении, способном внести в размеренный быт яркость и поднять рейтинг жены в глазах супруга. Такое приключение уже случалось в её жизни: она убегала к Шляпнику (торговцу тканями). Однообразие жизни в небольшом городе толкнуло героиню и в алкогольный омут: зависимость была побеждена, а скука осталась. Судя по вниманию к творчеству мужа, которого считают нелепым чудаком, поскольку он уверен, что Троя находилась в другом месте, Мария любит именно его, и это как-то не согласуется с заданной формулой вечной любви к Тихонину. Напрасно Тихонин решил провести тихие поздние годы в доме у моря с постаревшей на сорок лет мечтой юности, чуть подправленной умелой пластикой. Человек авантюрного склада нередко архетипичен, под грудой коммерческого сора может скрываться образ рыцаря, хранящего верность (пусть только в воображении) прекрасной даме. На прекрасную даму немолодая русская американка, конечно, не похожа, но это и не столь важно. Важен маршрут героя. Маршрут или обязан стать сюжетом возвращения, закольцевав жизнь Тихонина поздним счастливым обретением той, что когда-то навязала ему роль неудачника, проступающую под его нервным и, казалось бы, победным бегом по жизни. Или вместо фанфар линейно привести к полному фиаско. Когда я читала, мне показалось, что в подведении героя к трагическому финалу проступает рациональная схема: конец романа (Тихонин совершает самоубийство) не возникает из движения прозы, а заранее определён, и под него подгоняется событийный материал текста. Прочитанное позже интервью на сайте АСТ подтвердило мою догадку. Дмитриев объяснил: «Финал – та печка, от которой я пляшу».
Закрывая книгу, задаёшься вопросом: поднимает ли последний аккорд жизни Тихонина суетную жизнь обаятельного игрока до уровня древнегреческой трагедии? Вряд ли. Поражение Тихонина ведь предрешено не роком, не социальной катастрофой, а заранее начертано им самим. Своему знакомому Ю. он говорит об этом так: «Конечно, мы в конце любой игры, мой Ю., останемся в полнейшем проигрыше». Тихонина вела по жизни одержимость поиском, к сожалению, так и не превратившая его из торговца в Шлимана, отыскавшего Трою. Название романа в контексте путешествия становится метафорой. Ветер Трои – это влекущий и опасный ветер истории. В данном случае – истории личной. Тихонин надеялся, что «раскопки» могут вернуть живое взаимное чувство. Но ветер Трои – через позднюю эротику, воспоминания и слёзы, рестораны и отели, молчание мужчины о пережитом и многословные рассказы и рыдания женщины – привёл только в музей, в котором перед Тихониным предстало «умершее прошлое» в «осязаемых своих и зримых оболочках».
Павел Басинский, назвав Андрея Дмитриева своим личным фаворитом в коротком списке «БК-2025», сделал вывод, что главные герои романа «прожили жизнь в невероятной любви друг к другу, почти как Ромео и Джульетта, ни разу не встречаясь на протяжении сорока лет» («Российская газета»). Критик Татьяна Веретенова восприняла лирический дуэт иначе: прониклась сочувствием к героине и посчитала героя не сильно привлекательным («Дружба народов»). Алексей Татаринов оценил Тихонина ещё жёстче: «Атакует просто неприличный контраст между мизерабельностью главного персонажа и его воспеванием, которым занимается повествующее «мы». Не думаю, что, вводя многоголосное «мы» рассказчиков, автор ориентировался на полилог Достоевского, скорее, приём строится по модели сетевого чата, способного создавать героев на час буквально из пустоты. И, надо признать, приём в романе обыгран удачно: образ Тихонина, отражаясь в разных глазах, становится фантомом, и его гибель, несмотря на подтверждение, воспринимается как мифическая. Собственно, миф и создают рассказчики. Если прочитать «Ветер Трои» как любовный роман, который, по мнению Павла Басинского, «затягивает безупречной душевной интонацией и отсутствием псевдохудожественного выпендрёжа», смысл текста сведётся к невозможности возвращения: вторично войти в одну и ту же воду лишь для того, чтобы погибнуть, – это значит обнулить всю жизнь. Но ведь можно, прочитав книгу, усомниться: а была ли любовь? Не создавал ли себе Тихонин иллюзию настоящего чувства, собирающего мнимости его «Я» в нечто цельное и подлинное?
Л. Толстой как-то заметил, что любовь – это вера. И выбор читателя – верить или не верить в «невероятную любовь» героев и в перелистывающий страницы романа ветер «Большой книги».

