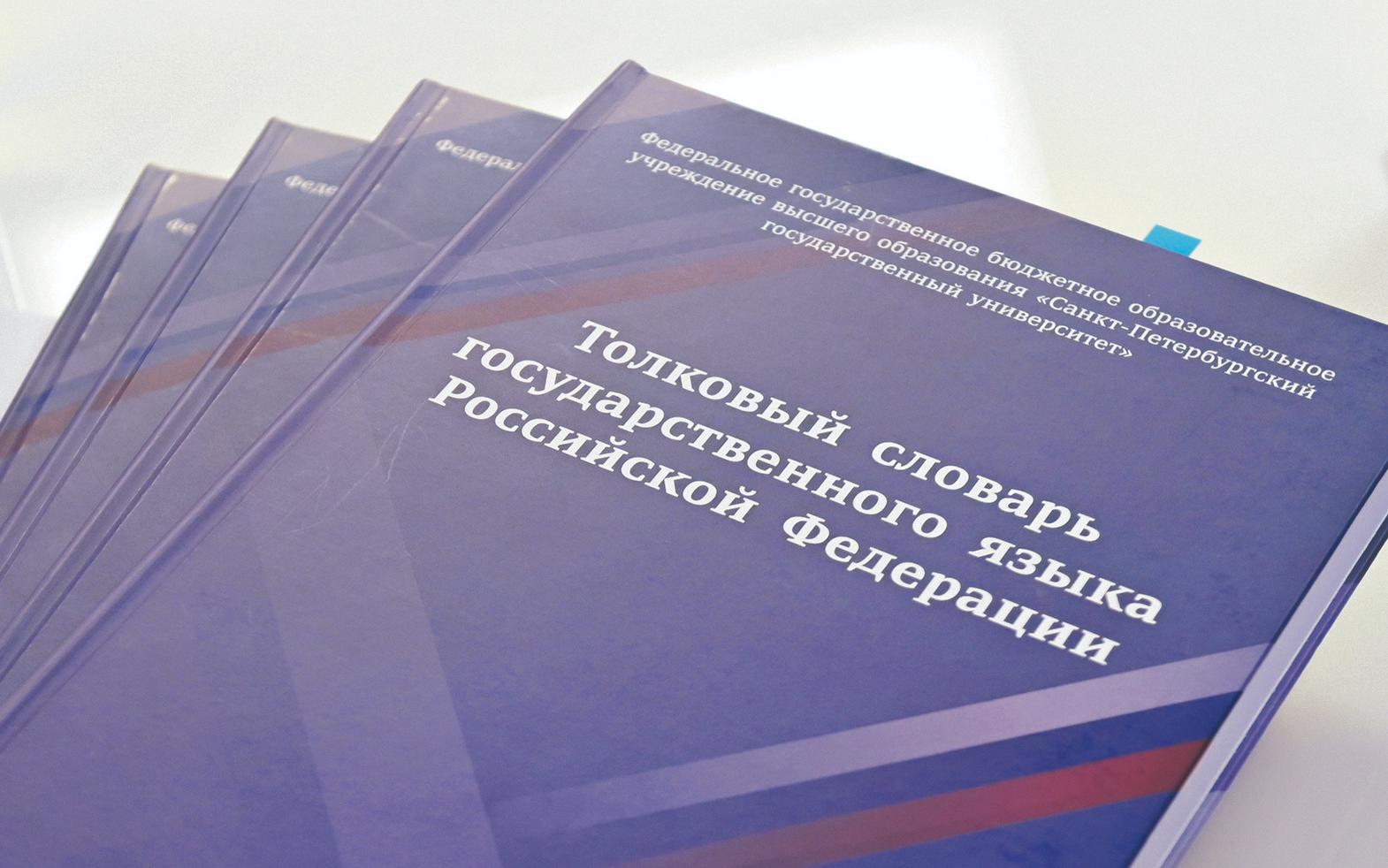Сергей Богданов
Чем государственный русский язык отличается от русского литературного? Такой вопрос мы задали, опубликовав статью ведущего научного сотрудника Института лингвистических исследований РАН Людмилы Кругликовой «Словарь тревоги нашей» («ЛГ», №38). На предложение поучаствовать в дискуссии откликнулся доктор филологических наук, руководитель Центра русского языка и славистики РАО Сергей Богданов. Вот как он трактует понятие «русский язык как государственный».
Государственный язык – язык основных символов государства, и гимна прежде всего. Это высокий, символический регистр государственной речи, обращённой к гражданам России. Совершенно очевидно, что государственный язык ни в коей мере не является каким-то отдельным языком по отношению к современному русскому литературному языку, не является даже каким-то особенным его вариантом, но представляет собой функцию от литературного, способ его употребления в заданных государством сферах.
Применительно к русскому языку наиболее общим термином, обозначающим этот объект, без сомнения, является «общенародный», или «национальный» русский язык. В его составе выделяется литературный язык, являющийся кодифицированной, нормализованной частью, и некодифицированная часть, состоящая из диалектных, жаргонных, просторечных, устаревших речевых структур и отдельных элементов языковой системы.
После проведения в 2011–2015 годах широкомасштабных исследований по Федеральной целевой программе «Русский язык» учёными СПбГУ была предложена оригинальная трактовка соотношения понятий «современный русский литературный язык» и «современный русский литературный язык в функции государственного». В основу различения понятий были положены лингвистические доказательства функциональной специфики употребления языковых средств в общественно значимых сферах, в которых, согласно Закону «О государственном языке Российской Федерации», современный русский литературный язык используется в качестве государственного языка Российской Федерации.
Но термин «современный русский литературный язык» не обеспечивает полной ясности и определённости, совершенно необходимых для понимания и применения Закона «О государственном языке». Понятие «литературный язык» относится к тем категориям, которые до сих пор не получили признаваемого всеми языковедами единого определения: не выявлено соотношения литературного языка со смежными категориями по временной, пространственной и социальной оси, а потому невозможно с полной определённостью установить состав его норм (лексических, грамматических, семантических). Литературный язык часто относят к подсистемам русского национального языка в одном ряду с языком науки, территориальными диалектами, городским просторечием, профессиональными и социальными жаргонами.
Основные категориальные признаки литературного языка, сформулированные учёными Пражской лингвистической школы, стали для первой половины ХХ века хрестоматийными: общенациональный характер (без региональных и социальных ограничений, кодифицированность нормы, связь с ограниченным кругом носителей – образованных людей; полифункциональность, стилистическая дифференциация). В современных исследованиях этот список дополняется другими признаками: тенденция к регламентации, поливалентность, двойственность (книжная и разговорная разновидности, письменная и устная формы). В теоретическом плане это создаёт такую размытость и противоречивость самой категории «литературный язык», что исключает использование этого словосочетания как термина. Ещё более запутывает ситуацию тот факт, что понятие «литературный язык» до сих пор (особенно в бытовом сознании, отражающемся в многочисленных статьях и рефератах, размещённых в интернет-ресурсах) многими соотносится с понятием «язык художественной литературы».
Современный русский литературный язык является универсальным языком – он успешно обслуживает все сферы деятельности человека и нормирован во всех функциональных стилях речи. К ним относятся: официально-деловой стиль, научный, публицистический, разговорный стиль, стиль художественной литературы. Часто разговорный и художественный стили речи выделяют в отдельные разряды, называемые разговорный язык и язык художественной литературы. Функциональная и прагматическая специфика этих стилей действительно позволяет их обособить.
Совершенно очевидно, что, говоря о государственном языке РФ, мы не имеем в виду какой-то особый язык по отношению к современному русскому литературному языку. Однако по составу норм (орфоэпических, орфографических, грамматических, семантических) можно констатировать частичное несовпадение того языкового материала, который мы относим к современному русскому литературному языку, и тех языковых форм и значений (состава лексем, грамматических конструкций, значений слов), которые корректно использовать в сферах функционирования русского языка как государственного. Причём состав норм современного русского литературного языка как государственного в чём-то меньше состава норм современного русского литературного языка – исключаются стилистически отмеченная лексика, лексические значения, приводящие к возможности неоднозначного толкования значения слова в контексте, грамматические конструкции и другие языковые средства, формирующие возможность неоднозначного семантического толкования.
Поэтому использование целого ряда лексических и грамматических единиц и правил их употребления, свойственных русскому литературному языку, при обеспечении коммуникации «в деятельности федеральных органов государственной власти»; «в конституционном, гражданском, уголовном, административном судопроизводстве»; «при официальном опубликовании международных договоров Российской Федерации» и некоторых других нецелесообразно.
В результате сопоставления толковых словарей современного русского языка и массива нормативных правовых актов выяснилось, что номенклатура лексики современного русского языка составляет около 120–130 тысяч слов, а словник правовых актов – всего около 55 тысяч единиц (не считая имён собственных и производных от них). Среди лексических единиц, которые не употребляются в сферах использования русского языка как государственного, находятся слова и устойчивые словосочетания нескольких понятийно-тематических групп, лексико-грамматических и стилистических разрядов.
Во-первых, это слова, относящиеся к разговорному пласту лексики и, как правило, выражающие оценочное отношение к обозначаемым ими предметам и явлениям (банальщина, барахло, бахвал, бедлам, белиберда).
Во-вторых, это слова, в стилистическом отношении никак не маркированные, но обладающие специфическим (позитивным или негативным) ассоциативным фоном. Например, абракадабра (негативный фон), возносить (позитивный фон). Слова бандит, вор, сутенёр в ситуациях использования современного русского языка как государственного заменяются словосочетаниями описательного типа. Слова американец, австралиец, англичанин и т.п. при обозначении гражданской принадлежности в сферах употребления русского языка как государственного не используются. Употребляются однозначные словосочетания: гражданин США, гражданин Австралии и т.п.
Возможность разного грамматического оформления значений, которые должны быть выражены в процессе коммуникации с максимальной понятностью, однозначностью, нейтральностью, также должна учитываться при определении языковых норм, ограниченных в использовании при употреблении государственного языка РФ. Так, значение причины (событийное, ситуативное указание) может быть выражено:
– наречием ([попал в аварию] спьяну);
– предложно-падежной формой (в состоянии опьянения);
– сложноподчинённым предложением (потому что был пьян (пьяный) / потому что был в состоянии опьянения).
Сложноподчинённое предложение (представляющее наиболее развёрнутый способ выражения значения причины) имеет наибольшие возможности для фиксации этого значения с максимальной однозначностью и нейтральностью, а следовательно, наиболее предпочтительно для коммуникации в сферах употребления государственного языка. Наречие спьяну несёт на себе несомненный отпечаток разговорного стиля. Предложно-падежная форма в состоянии опьянения передаёт не только причинное значение, но и временной («в состоянии опьянения он опасен для окружающих», т.е. не только «потому, что пьян», но и «когда пьян»). Существенной может оказаться и разница фиксации степени опьянения. При использовании предложно-падежной формы в состоянии опьянения степень опьянения не фиксируется, в то время как в конструкции был пьян (тем более пьяным) передаётся высокая степень признака.
Ещё более яркий пример – передача временного значения предложно-падежной формой на момент голосования, позволяющей интерпретировать её совершенно неоднозначно (момент регистрации голосующих, момент помещения бюллетеней в урну, момент подсчёта бюллетеней, момент подписания протокола по итогам голосования). Выбор максимально развёрнутого языкового средства (придаточного предложения) позволяет исключить неоднозначность интерпретации.
Нарушение прямого порядка слов, допустимое в разговорном стиле и художественной литературе, при использовании языка в качестве государственного часто ведёт к двойному толкованию фразы. Например, изменение порядка следования субъекта и объекта действия при именном предикате «нападение» нарушает принцип смысловой определённости. Ср.: «Телеканал в Югре заявил о нападении на оператора бывшего полицейского». Структура этой фразы порождает мнимый одушевлённый объект «оператор бывшего полицейского».
Другой вариант ошибочной структуры: «В Петербурге нашли обманувших на 21 миллион рублей лжеброкеров». Словоформа «обманувших» может быть интерпретирована как субстантив, следовательно, «нашли тех, кто обманул лжеброкеров на 21 миллион рублей». Или как причастие: «нашли лжеброкеров, обманувших кого-то на 21 миллион рублей».
Возможность двойной интерпретации возникает и в том случае, когда предложно-падежная форма в значении обстоятельства причины используется в неопределённо-личном предложении. Например: «Бывшего начальника столичного угрозыска арестовали за взятку». Здесь остаётся непонятным, кто брал взятку: «начальник, которого кто-то арестовал» или «тот, кто арестовывал начальника»?
Случаи нарушения критериев понятности и определённости обнаруживаются и на уровне риторических манипуляций. Например, статья с заголовком: «Госдума приняла закон об использовании нацистской символики». На самом деле, как следует из дальнейшего текста, «Госдума приняла закон об исключении запрета на использование нацистской символики и атрибутики в науке, искусстве и литературе в случае отсутствия пропаганды и оправдания нацизма».
Для осуществления эффективной коммуникации при использовании языка в качестве государственного недостаточно исключить из употребления некоторые лексические и грамматические единицы. Важно обеспечить актуализацию когнитивных составляющих значений слов, представленных в профессиональных «подъязыках», характерных для различных сфер знаний. Эти семантические нормы представляют собой, как правило, уточнения (дополнения) к общеупотребительному значению слова, зафиксированному в обычном толковом словаре. В конкретных ситуациях (судопроизводство, делопроизводство, публичное общение власти с гражданами) такого рода семантические составляющие (компоненты «дальнейшего значения» слова) оказываются необходимыми для обеспечения полноты, понятности и недвусмысленности информации, а следовательно, и успешности коммуникации. Вот несколько примеров.
Два значения слова обет (рел. 1. «Одна из форм религиозного подвижничества, заключающаяся в монашеском отречении: от своей воли (обет послушания), от жизненных благ, ценностей материального мира (обет нестяжания), от жизни в браке (обет безбрачия)». 2. «Обещание мирянина совершить какое-л. богоугодное дело (пожертвование, аскетический подвиг, паломничество в святые места и т.п.). После просительной молитвы, обычно о выздоровлении, успехе в важном деле и т.п.» дополняются справкой о том, что обет должен быть в пределах физических и нравственных сил человека, приниматься добровольно, а нарушение обета расценивается как тяжкий грех.
Пятое значение слова аналогия (5 юр. «Применение к правоотношениям, не урегулированным прямо законом, правовых норм, регулирующих сходное отношение, или общих начал и принципов соответствующей отрасли права») дополняется комментарием: «Применение аналогии закона в уголовном праве в демократических государствах строго запрещается».
После фиксации значения слова полпред (полит. «Полномочный представитель». Полпред президента. То же, что полномочный представитель президента) следует указание, что в СССР до 9 мая 1941 года полпредом назывался посол.
После фиксации первого значения слова оккупация (1. «Насильственное, обычно временное занятие вооружёнными силами государства не принадлежащих ему территорий, не сопровождающееся обретением суверенитета над ней») следует дополнение, что режим и правовые нормы военной оккупации определены специальными международными соглашениями, принятыми на IV Гаагской конференции 1907 года, а также Женевскими конвенциями 1949 года и протоколами к ним от 1977 года.
Значение слова ноосфера (научн. «Сфера взаимодействия общества и природы, в границах которой разумная человеческая деятельность становится определяющим фактором развития, сферы разума») дополняется справкой: «Ноосфера включает: антропосферу; техносферу; изменённую человеком живую и неживую природу; социосферу».
Другие примеры:
БОЙКО’Т, -а; м. [англ. boycott]. Полное или частичное прекращение отношений с кем-л. в знак несогласия с чем-л., протеста против чего-л. … ▪ По имени британского управляющего в Ирландии Чарльза Бойкотта (1832–1897), по отношению к которому в 1880 году местные жители, отказавшись обрабатывать его землю, впервые применили эту форму протеста.
ГРАФЕ’МА, -ы; ж. [от греч. grбpho – «пишу», «рисую»]. Мельчайшая единица письменной системы языка. ▪ В алфавитном письме графемой является буква, в других системах письма – слоговой знак, иероглиф, идеограмма и др.
КОМБАТА’НТ, -а; м. [от франц. combattant – «воин», «боец»]. В международном праве: тот, кто принимает непосредственное участие в боевых действиях, находясь в составе вооружённых сил одной из сторон. ▪ Комбатантами считается весь личный состав регулярных вооружённых сил, кроме медицинских работников, а также личный состав ополчений, партизанских отрядов и других добровольческих формирований.
Такого рода энциклопедическая информация закрепляется за словом как единицей государственного языка РФ в результате экспертной работы специалистов разных сфер знаний, выделяющих из доступного им профессионального знания информацию, которая может обеспечить успешность коммуникации в сферах использования русского языка как государственного и фиксируется, как правило, в специальных отраслевых словарях и справочниках.
Необходимость выполнения государственным языком РФ своей главной цели – обеспечения коммуникации в сферах его обязательного использования – делает нецелесообразным использование целого ряда лексических и грамматических единиц, не отвечающих требованиям ясности, понятности, однозначности, нейтральности, отсутствия оценочности.
Сферы государственной документации (любого уровня), школы и других государственных институтов – отдельный стиль общения на государственном языке. Сферы СМИ и рекламы должны иметь иной статус относительно использования в этих сферах литературного языка в качестве государственного. Возможный статус участия государственного языка в этих сферах – «речевое попечительство»: критерии однозначности, логичности, правильности и уместности не являются для этих сфер конституирующими, но критерий этического и культурного уровней должен быть им свойственен абсолютно.
При использовании современного русского литературного языка в качестве государственного, с одной стороны, происходит естественное ограничение употребления ряда свойственных литературному языку норм, с другой – с необходимостью используются семантические нормы, свойственные языку науки, профессиональным «подъязыкам», – своеобразные когнитивные составляющие значений слов и словосочетаний современного русского языка.
Фактическое несовпадение языковых норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного и современного русского литературного языка требует создания специальных научно-информационных источников (словарей, грамматических справочников, специализированных баз данных). Наличие значительного количества специальных (профессиональных) словарей и справочников, так же как словарей, грамматик и стилистических описаний литературного языка этой проблемы не решают. Отсюда актуальность часто обсуждаемого проекта специального словаря «для чиновников».
Все качественно исполненные словари и справочники современного русского литературного языка и словари профессиональных подъязыков в совокупности порождают норму функционального макростиля и должны быть организованы в единую электронную базу данных для обеспечения функционирования русского языка как государственного.
Проблема государственного языка – это в конечном счёте проблема понимания и эффективного взаимодействия государства и гражданина, различных ветвей государственной власти, граждан между собой в рамках государственной коммуникации. Следовательно, нормы государственного языка, с одной стороны, в части своих характеристик, безусловно, пересекаются с признаками, которыми обладают нормы литературного языка (общепринятость, обязательность, обработанность, наддиалектность), с другой – имеют весьма строгий функционально-прагматический критерий – они служат эффективному взаимодействию между государством (в самом широком смысле слова) и гражданином.