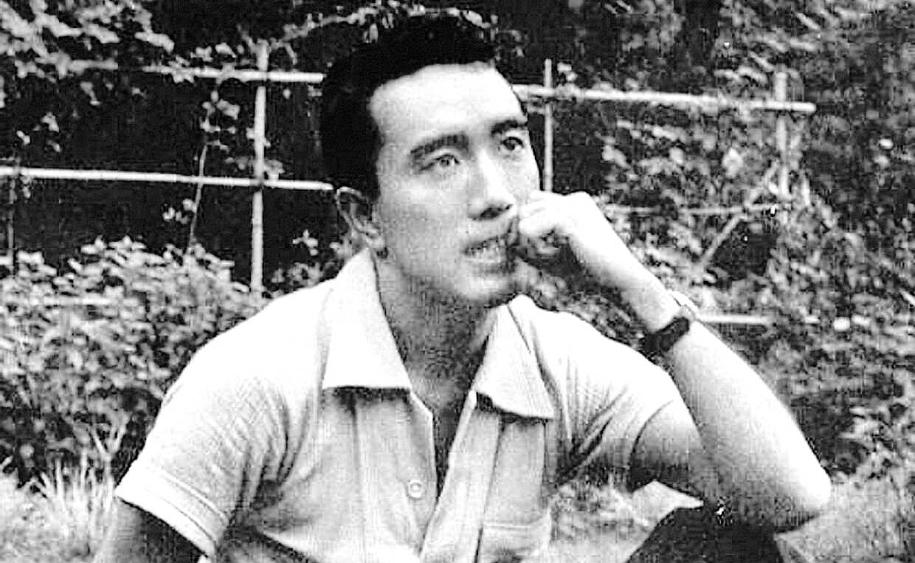К 100 летию со дня рождения самого известного в мире японского писателя издательства начали готовиться заранее. Так, в «Иностранке» («Азбука-Аттикус») вышло сразу три романа Юкио Мисимы, никогда ранее не переводившихся на русский язык. Об этих книгах и творчестве писателя в целом беседуем с переводчиком Еленой Струговой.
– Всегда интересно, когда много лет спустя после смерти классика публикуются никогда ранее не переводившиеся его произведения. Невольно возникает вопрос: если, как в случае с Мисимой, книги не переводились более 60 лет – может, на то были причины, эти произведения являются неудачей автора, книгами заметно более слабыми, чем остальное его творчество? Как вы считаете, почему «Дом Кёко», «После банкета» и «Девушка из хорошей семьи» так долго оставались без внимания русских издателей и переводчиков? И что делает их актуальными сегодня?
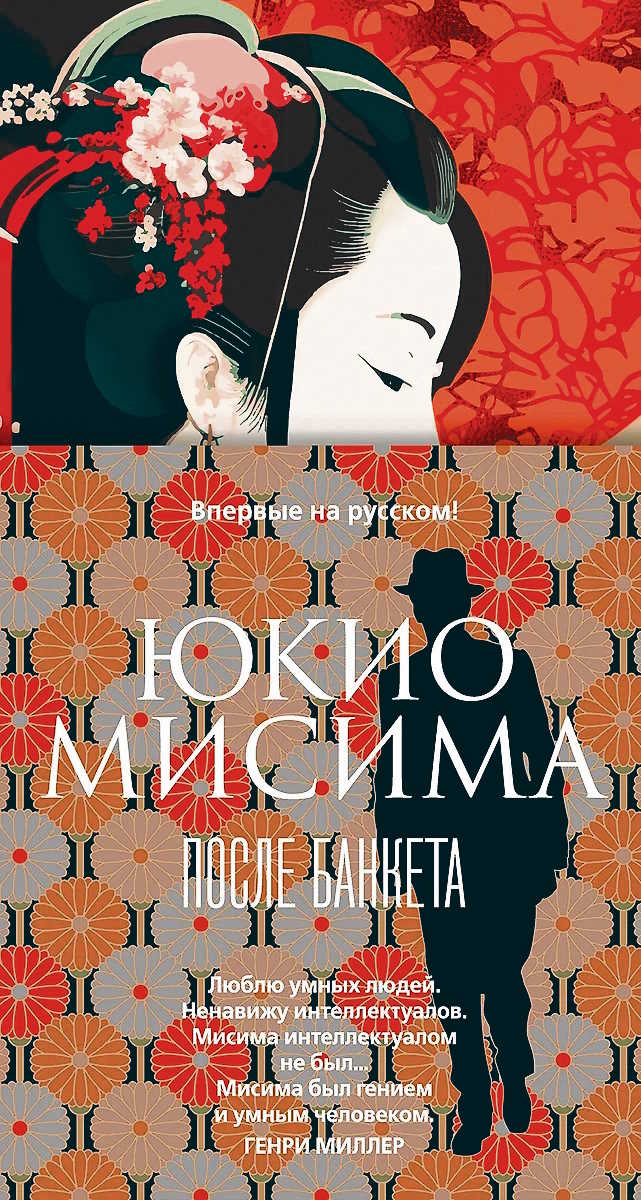
– Выражение «неудача автора» представляется неопределённым. Кто так считает? Сам автор? Критики? Некий усреднённый читатель? В каждой из перечисленных категорий явно преобладает субъективное мнение. А на русский язык произведения Мисимы вообще стали переводиться позже, чем на другие европейские языки: до конца 80 х годов ХХ века в СССР автор носил ярлык ярого монархиста, националиста с радикально правыми взглядами, его творения считались несовместимыми с тогдашней идеологией. Когда же времена и отношение к автору переменились, то сразу объять творческое наследие писателя, на мой взгляд, было просто невозможно. Мы сейчас, облагодетельствованные технологическими достижениями в области поиска информации, быстро забыли или не представляем себе, какой это труд. И произведения для перевода, очевидно, отбирались исходя из склонностей или интересов авторитетных переводчиков, возможностей и постоянно совершенствующихся планов издателей и издательств или, как теперь, когда в преддверии столетнего юбилея Ю. Мисимы русскоязычного читателя стараются познакомить как можно с большим количеством созданного писателем.
Актуальными названные произведения делают их вечные темы, в очень общем виде я обозначила бы их как проблемы «потерянного поколения» в «Доме Кёко» или «женская доля» в таких разных во всех отношениях сочинениях: «После банкета» и «Девушке из хорошей семьи».
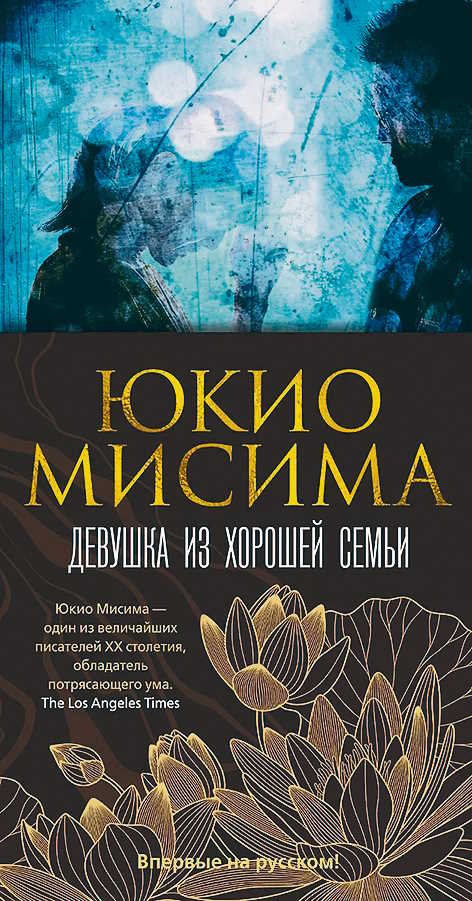
– Названные произведения создавались в 50-е годы прошлого века и отражают состояние японского общества данного периода. Для Японии это было время больших потрясений: после поражения во Второй мировой войне она фактически участвовала в войне, развязанной США в Корее, на этот период пришлось заключение договоров, которые ущемляли суверенитет страны, но всё это тем не менее способствовало не просто возрождению экономики, но и высоким темпам её развития: зрело «японское экономическое чудо». В обсуждаемых текстах нет конкретных дат, фоном где-то присутствуют оставшиеся в виде пожарищ следы прошедшей войны, но персонажи в их настоящем живут вполне обеспеченно, социальные конфликты существуют где-то на периферии. Схожесть, пожалуй, мне видится лишь в этом. А так, «Дом Кёко» – масштабное произведение, где в повествование органично вплетено осмысление через существование конкретных персонажей религиозно-философских концепций, направлений буддизма, мистических практик. В этом прекрасно ориентируется автор, но при переводе приходится обращаться к различным источникам вне текста. В «После банкета» критики и исследователи видят политическую составляющую. Известно, что изложенная в романе история выборов губернатора Токио, которая подчёркивает противопоставление главных героев по признакам «интеллигент – народ», имела в основе реальное событие и узнаваемых прототипов. Это даже привело к судебному иску и отказу некоторых издательств принять рукопись. «Девушка из хорошей семьи» – замечательный образец массовой литературы, произведения с классическим счастливым концом.
– Вы также переводили последнюю тетралогию писателя – «Море изобилия». Можно ли назвать её творческим завещанием? И если да, то о каких ключевых идеях идёт речь?
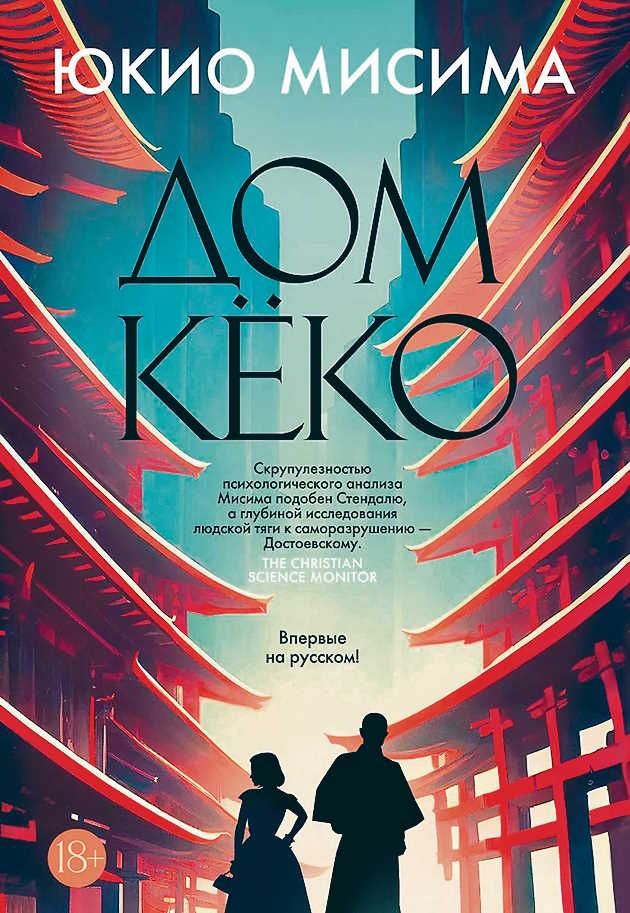
– Оставляя в стороне опять-таки неоднозначное выражение «творческое завещание», выскажу сугубо личное ощущение. Четыре романа, составляющие «Море изобилия», объединяет идея реинкарнации – переселения душ. Герой на протяжении своей долгой жизни встречает (потому что ищет) воплощение своего друга юности. В каждой из книг тетралогии действие разворачивается в специфических местах, значительную часть текста занимает изложение концепций, так или иначе связанных с идеей реинкарнации. Главное в сюжете то, как сильнейшая дружеская привязанность юности потом по-разному проявляется в зависимости от личности, в которой герой по физическому признаку определяет присутствие души друга. Это и отцовское желание защитить юного заговорщика, и плотское влечение к женщине, и разочарование в подленьком приспособленце. Последнее в том числе приводит к крушению иллюзий. Думаю, в этом сочинении выражена извечная надежда человечества на то, что физическая смерть не есть абсолютный конец.
– Что самое сложное при работе с текстами Юкио Мисимы с точки зрения перевода? Можете привести пару интересных примеров из работы над последними тремя книгами?
– Самое сложное, полагаю, и это относится не только к переводам произведений Юкио Мисимы – передать соотношение «содержание – форма» максимально близко тому, как это сделано у автора. Различие языков, естественно, играет тут определяющую роль. Мисима искусно пользуется всеми языковыми средствами, в том числе и письменными, где иероглифическая составляющая японского письма служит изобразительным целям, добавляя смысловые оттенки. Я пока не нашла способа отразить это в переводе, но обнаружила редкий пример моделирования приёма. Так, героиня «После банкета» выбирает кимоно, желая отразить в его цвете и рисунке имя, хотя бы первый иероглиф фамилии любимого человека: «…по подолу, на шёлке спокойного тёмно-коричневого цвета, тянутся вверх окружённые белыми облаками хвощ и одуванчики, оттенённые золотом, – они передают идею весеннего поля». К этому полагается «серая со струящимися полосами расцветки» накидка с ярко-лиловой подкладкой». Впоследствии выясняется, что на подкладке белым начертано приличествующее сезону (весне) известное стихотворение. Вообще тексты изобилуют образами, сравнениями, которые просто загоняют сознание в тупик: «Его внешность и речь напоминали безмятежное старое дерево, под солнцем при лёгком ветре роняющее листья».
– Зачем стоит читать Мисиму? И почему из множества японских авторов именно он стал одним из самых, если не самым популярным в мире?
– Я полностью разделяю мнение, что литература, книги дают читателю возможность прожить не одну, собственную, а много жизней. Самые разные по жанру сочинения Мисимы переселяют и увлекают душу в такие жизни, что нам и не снились… Его небывалая популярность, очевидно, связана с масштабом личности: огромное наследие, созданное на протяжении ярчайшей и такой короткой творческой жизни с неподвластным пониманию концом.