Беседу вела Дарья Ефремова
В издательстве «У Никитских ворот» вышла книга иронической прозы писателя, журналиста, главного редактора «Вечерней Москвы» Александра Куприянова «Гадина». О соцсетях как о журналистике прямого обожания, о пределах прогресса и о метафоре современности в эпиграфе Эрнеста Хемингуэя к «Снегам Килиманджаро» – в интервью «ЛГ».
– Читала «Гадину» в электричке, поймала себя на том, что смеюсь на весь вагон, хотя вообще-то книга грустная. Похоже, прав был Юрий Козлов, написавший в одной из рецензий, что Куприянов рисует картину мира «жёстким, рвущим бумагу карандашом». Насколько автобиографичен главный герой – издатель Гарик Купердонов?
– Флобер сказал: «Мадам Бовари – это я». Так вот, «Гадина» – это я. Писатель всегда работает с собственным жизненным материалом; но это, конечно, не означает буквального перевода биографических событий в литературу. Гарик Купердонов – это слепленный образ человека не очень далёкого, увлекающегося, разочаровывающегося, ищущего в этом мире опору. Он живёт обыкновенной жизнью, пытается вписаться в новые времена. Бывший военный корреспондент в Афганистане, сначала он работает редактором в журнале «Пчеловодство», потом становится издателем. Его «прорыв» – серия «ЖОП» по аналогии с «ЖЗЛ» – «Жизнь обыкновенных персонажей». Временами он наивен – и даже глуп. Но ещё Пушкин сказал: «Поэзия должна быть глуповата»; а Новелла Матвеева – дополнила: «Но сам поэт не должен быть дурак». Я пишу глуповатые вещи – но пытаюсь поговорить о серьёзном. А вот грустную книгу писать не хотел…
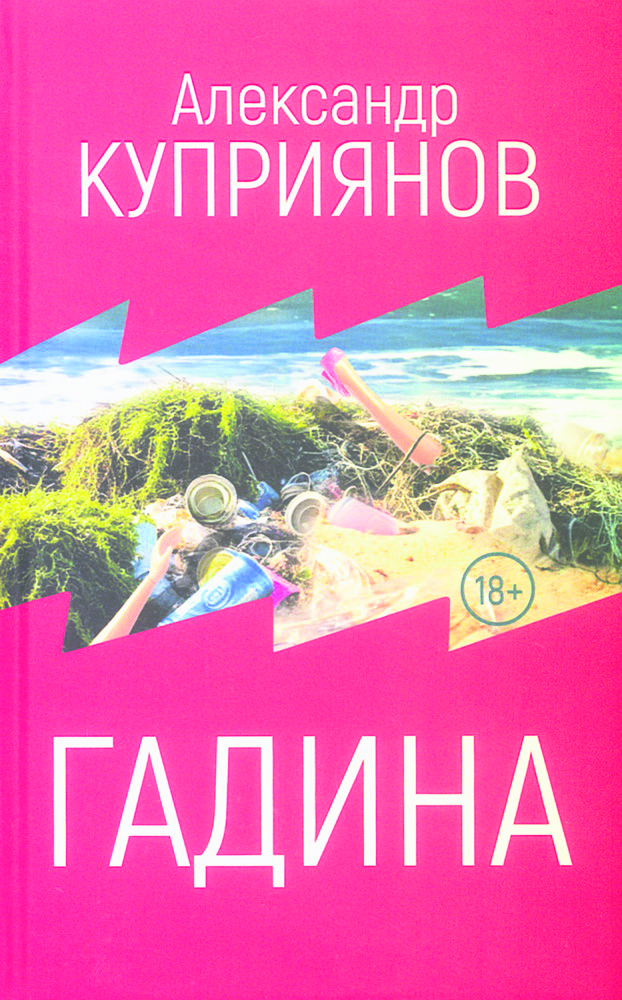
– Как родился замысел, легко ли было это издать и почему понадобилось изобретать «трешовый» жанр? Я насчитала там несколько направлений: катаевский мовизм, иронический рассказ, фантасмагория…
– Это моя третья книга, написанная в стилистике мовизма, то есть «плохого письма» (от французского mauvais – «плохой, дурной», термин введён Валентином Катаевым, к мовизму он относил «Алмазный мой венец. – Ред.). До этого был «Гамбургский симпатяга» и «Дед Пихто». Книга появилась из рассказов-зарисовок, которые я начинал писать ещё в девяностые. Издать, вы правы, было нелегко: меня знали совсем по другим книгам. Показал было в паре мест, но дамы-редакторши морщили губки: мол, обыденность, табуированная лексика, опять же – «Купердонов», над кем смеётесь, над собой, что ли, смеётесь? В те времена хотели остросюжетности, то есть крови, секса, главного героя-олигарха, свинцовых мерзостей жизни… Тогда только начинала меняться культурная парадигма, позднесоветская исповедальная литература уступала место массовым жанрам и постмодернизму. А мне всегда казалось, что это немного придуманный взгляд на мир, потому что тихая боль живого героя куда страшнее, чем любой пугающий антураж. Печальные случайности трагичнее всего действуют на душу… Прошло много лет, записки валялись в столе, но вот относительно недавно один умный человек сказал: покажи Максиму Замшеву. Отличный литературный критик, интересный прозаик, поэт, он несколько раз писал рецензии на мои работы – не хвалебные, точные! Вот и сейчас: посмотрел – и сказал: «Да ты чего, это надо издавать!» Поддержала и главный редактор издательства «У Никитских ворот» Мария Должкова. Естественно, кое-что пришлось осовременить: за десятки лет многие реалии поблекли. «Гадина» вышла – и, к моему удивлению, получила большой читательский отклик. Видимо, заголовок делает свою работу. Некоторые знакомые женщины даже думают, что я написал про них…
– Тут нужно пояснить, что Гадина, она же Джессика, она же Дуся, – это собака. Афганская борзая, купленная по случаю у кудлатой заводчицы за тысячу рублей охранять дачу в «Приветах». Однако собаку никак не удавалось приручить: Купердонова она невзлюбила сразу, его жену Алусика тоже не слушалась. Зато полюбила таджикскую горничную, читавшую, между прочим, в подлиннике Шекспира. Это всё правда?
– Но вы же поверили? Да, это реальная история: была у меня такая собака и такая помощница по хозяйству: таскала из кабинета Шекспира, между прочим, на староанглийском. Отлично работала, потом привела в дом своих земляков-оппозиционеров, они стали устраивать что-то вроде заседаний тайного общества… «Восток – дело тонкое», а собака-афганка – существо свободолюбивое, непостижимое, её невозможно заставить себя полюбить. Я бы, конечно, мог разложить по полочкам, что тут правда, а что вымысел. Но лучше не буду. Ведь самую точную формулу литературного творчества придумал Александр Сергеевич Пушкин: «Над вымыслом слезами обольюсь». Рад, если получилось, но вообще не отношусь к своему писательству слишком серьёзно: я малоизвестный литератор. Писатель – это Достоевский, Платонов, Фолкнер, Хемингуэй… Впрочем, это не освобождает меня от необходимости осмысливать прожитое. Я ем хлеб, пью молоко (иногда – водку), сплавляюсь по рекам, руковожу газетой и пытаюсь осмысливать происходящее, – вот и хотелось бы оставить миру эти осколки. А что до самоиронии, то она вообще-то очень нужна: это один из способов примирить человека с миром. Умение пошутить над собой – ценное качество, которое мы потеряли. В современном мире самолюбование, нарциссизм, переходящий в крайний эгоцентризм, –зашкаливает. Во всех сферах, и в писательской среде тоже.
– Почему так произошло?
– Современный мир, перегруженный информацией, цифровыми технологиями, сервисами, – превратился в самолюбующуюся систему. Или, как сейчас говорят, в «продукт». Ведь что такое соцсети? Это журналистика прямого обожания – или прямой злобы. Там нет середины. Если я с вами не согласен, – я должен вас забанить. Мне говорят: ты консерватор и ретроград, ты отстаёшь от прогресса! Развиваются технологии, появляются новые культурные коды, меняется взгляд молодёжи на себя, на старшее поколение… Может быть. Но я больше замечаю, что молодые люди стали крайне невежественны, в 25–30 лет они открывают для себя мир на уровне первоклашек! Иногда доходит до абсурда: у меня были юные корреспонденты, думавшие, что в Великой Отечественной войне победили китайцы. «Почему, – говорю, – китайцы?» – «Да потому, Александр Иванович, что их много». Или вот недавно кто-то восхищался Джоан Роулинг: мол, «она получает премию, потому что придумала мальчика, который летает по школе на метле». А ничего, что Баба-яга уже лет 800 как на метле летает?
– У вас собрана коллекция офисного арго: <…> «нибздо», «чирикастый»… Насколько инфантильным кажется это поколение менеджеров на фоне героев романа «Истопник» Корнилова, Воробьёва, Павла Васильева?
– А Гайдар в 16 лет полком командовал… Лучше не сравнивать. Сейчас мужчины в 50 лет бегают к маме, чуть с женой поссорятся. Инфантильность в нашем обществе зашкаливает. У нас пацан не может ни скворечник соорудить, ни костёр развести в походе, какое там – мамонта добыть… Это мы их лишили привычки к самостоятельности – доставками, гаджетами, привычкой лениться…
– В одном из интервью вы говорили: «В основе традиции русской литературы лежит страдание». В чём ваша боль?
– В этой книге есть второй фон. Он в том, что мир с катастрофической скоростью дебилизируется. Мы становимся рабами эпохи – уже не потребления даже, а постпотребления. И тут снова приходится вспомнить о писателях, которые, как известно, бывают – пророки, а бывают – бытописатели. К последним, по моему глубокому убеждению, относится Чехов, к первым – Достоевский и Лев Толстой. Так вот, его последователь, великий и ужасный Махатма Ганди, говорил ещё в первой половине ХХ века, что мир захлестнул экономический материализм, от которого «задыхаясь, умирает душа». Философ Александр Зиновьев в одном из последних своих интервью, которое он давал радио «Говорит Москва», подчёркивал, что от «такого хлама, как информация, на планете просто некуда деваться. А вот чего стоит вся эта информация, это уже другой вопрос. Мир вообще с интеллектуальной точки зрения захламлён настолько, что потребуется столетие, чтобы его очистить. Девяносто процентов того, что говорится и пишется, – совершенная бессмыслица. Хотя люди произносят слова и умные фразы». Или вот о лауреатах Нобелевской премии: «Совершенно дремучие люди. Такой дремучести я не видел последние лет 50. Создаётся впечатление, что что-то происходит. Но в действительности мы живём в мире с другим человеческим материалом, который изменился колоссальным образом. Подавляющее число изменений незримо, и заметить их очень трудно». Буквально на днях читаю в «ЛГ» статью уральского историка Дмитрия Лабаури. Он пишет применительно к культу цифры, потребления и гламура: «Современный глобальный мир практически не оставляет шанса новым поколениям вырваться из паутины этой зависимости. Неудивительно поэтому, что главным образом лишь изолированные от внешнего мира общины по-прежнему демонстрируют высокий уровень созидательного потенциала как в хозяйственном, так и в семейном плане. Такие, к примеру, как сельские общины русских старообрядцев или североамериканские колонии амишей и консервативных меннонитов. Прогресс указанных общин обеспечивается не только коллективным трудом и жёсткими для современного человека идеологическими установками, основанными на вере, но и отказом от тех достижений цивилизации, которые, в их понимании, могут обладать деструктивными свойствами: от интернета, телевидения, радио. Как бы то ни было, но и старообрядцы, и амиши своим примером наглядно иллюстрируют тот факт, что развитие цивилизации имеет свои пределы» («Хлеб и зрелища эпохи постмодерна», «ЛГ», № 50, 2023. – Ред.).
И я готов это подтвердить. Я вырос на Дальнем Востоке, много лет занимался северными народами. Там если вездеход просто пройдёт по тундре – ей придётся восстанавливаться 30 лет. Таково и влияние прогресса. В погоне за удовольствием и красивой жизнью мы забываем о главных вещах. У одного из моих любимых писателей, Эрнеста Хемингуэя, в его знаменитом рассказе «Снега Килиманджаро» такой эпиграф: «Почти у самой вершины западного пика лежит иссохший мёрзлый труп леопарда. Что понадобилось леопарду на такой высоте, никто объяснить не может». Это – метафора погони за прогрессом. Вот об этом я думал, когда писал эти простенькие повести.
– Интересно, что и открывающая сборник новелла, и финальная касаются путешествий, рефлексии на фоне чужой, вроде бы близкой, но на самом деле принципиально иной культуры. Кавказ рисуется и бравирует, Запад фальшивит и хвастается, болгарский герой предлагает выход в духе кота Леопольда – и тоже терпит фиаско. И все эти встречи-путешествия к иному становятся для героя инициацией и дорогой к себе. В первом случае герой расстаётся с корыстной любовницей, во втором – просто возвращается к образу детства, мечте, «садится в лодку и уплывает оттуда навсегда». Насколько нужны другие, чтобы понять себя?
– Я рос в интернате, и острое желание сбежать преследовало меня с детства. Оттуда этот образ, давший заглавие одному из предыдущих моих романов, – «И тогда он сел в лодку и уплыл оттуда навсегда». Но в то же время детство, особенно для писателя, – время, в которое мысленно хочется возвращаться, каким бы сложным оно ни было. То, что случилось тогда, калькой ложится на всю жизнь, тут ничего не сделаешь. Толстой, Горький, Нагибин, Астафьев – все возвращались в детство. У меня и моих героев есть юношеская, интернатская привычка: сесть в последний вагон и куда-то сбежать. На Большую землю, в поход, на войну, в космос…
– Раз уж мы начали с Пушкина и вообще с классики. Купердонов рассуждает о знаменитом стихотворении Лермонтова «На смерть поэта»: а не рановато ли Михаилу Юрьевичу в классики, «с свинцом в груди» вообще-то не здорово, во-первых, два «с», во-вторых, звучит как «с винцом», «проверено на Светке». Дальше дело доходит до Пушкина: герой размышляет, что молодого поэта-диссидента, живи он в советское время, сослали бы в тухлый городок за 101-й километр, а не на «обкомовскую дачу, где целыми днями угощают красной икрой». Как относиться к канонизациям, мифам, лакировке биографий?
– Для меня Пушкин, Есенин, Пастернак, Бродский, Астафьев, Нагибин – это их книги. Мне неважно, сколько у них было любовниц, с кем они конфликтовали и хорошо ли складывалась их судьба. У Цветаевой были страшные отношения с её младшей дочерью Ириной, она отдала её в детдом, где девочка погибла, – но разве об этом надо думать, читая её стихи? Или Павел Васильев – поэт, погибший в 27 лет: к этому возрасту он написал 14 поэм и великолепные стихи «Наталье». Да, он был пьяницей, антисемитом, устраивал дебоши, таскал швейцара за бороду в «Яре». Твардовский был выпивохой. Нагибин пил так, что, когда приезжал в Пахру, – выпадал из-за руля, и Алла, его жена, затаскивала его наверх. Но он написал «Свет в конце тоннеля», «Золотая моя тёща» – книги высочайшей мировой исповедальности. Но человечество мыслит по принципу таблоида, люди обожают заглядывать под плинтус… Недаром популярны литературоведы, которые гвоздят писателей по принципу, какие они все бабники, двурушники, алкоголики… Может, эта информация и нужна исследователям, чтобы понять хитросплетения этих умов, тайны их литературных поисков. Для меня загадка, как Валентин Петрович Катаев, лауреат Сталинской премии, непростой человек, лавировавший, умевший нравиться власти, – написал в конце жизни «Алмазный мой венец». Но ведь написал же! Почему Пушкин – национальный поэт номер один? Я долго не мог понять. Но вот уже сейчас, каждый год бывая в Пушкиногорье, понял: всё, что делает с тех пор русская поэзия и отчасти проза, – это «комментарии» к Пушкину. Он был пророк, философ, историк, лирик, иронист. Может быть, поэтому его сейчас так часто преподносят в духе народного, лубочного шутейства: красная косоворотка, бабы, песни, ноготь отращённый… Он был великим национальным поэтом, сумевшим соединить в своих стихах время и пространство. Неосознанное стремление к свободе. Человек не может жить с поджатым хвостом. Пушкин – он об этом.

