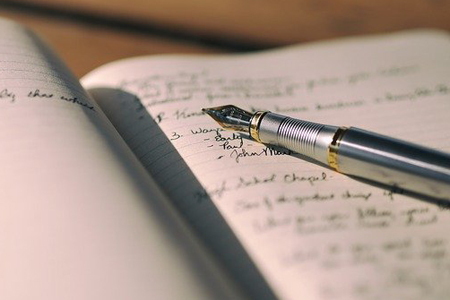Я совсем не продвинутый пользователь социальных сетей, но, как говорит мой друг Александр Чистяков, «шноблик облик» – положение обязывает (noblesse oblige)… И мне приходится пользоваться социальными сетями, чтобы следить за литературным процессом из заснеженного города Пыть-Яха – c нефтяных и труднодоступных просторов Югры.
Вот так я и обнаружил в интернете фоторепортаж, где Александр Чистяков дарит московской библиотеке книгу Магомеда Ахмедова «Одинокий остров». Я с глубоким почтением слежу за творчеством председателя писательской организации Магомеда Ахмедовича Ахмедова, считаю его выдающимся деятелем российской культуры и поэтому незамедлительно позвонил в Москву, чтобы узнать о подробностях презентации.
Я сказал ему:
– Саша, брат, какими судьбами эта замечательная книга оказалась у тебя? Почему я не знал о презентации?
Александр Чистяков:
– Это не презентация книги была. Просто у нас в Москве на Ленинском проспекте в библиотеке имени 1 Мая создаётся новый проект – Библиотека народов России. Вот на одном из круглых столов в рамках спецпроекта «ЛГ» «Настоящее прошлое» я и подарил эту книгу. Мне её прислал автор предисловия Мамед Халилов. Честно говоря, я очень настороженно отношусь к переводной поэзии, и в этой книге мне больше всего понравилась заключительная, прозаическая часть – «Исповедь сына гор». Вот именно в этой пронзительной автобиографии я прочитал удивительные откровения замечательного горского поэта и даже заочно влюбился в его понимание мира, по новой увидел и свою Москву, и его Дагестан.
Княз Гочаг:
– Его Дагестан? А что, есть другой?
А.Ч.:
– Есть Дагестан Расула Гамзатова или Дагестан Тимура Раджабова – это совсем разные миры. Я вообще не понимаю, как можно сказать «дагестанский поэт». Разве есть дагестанский язык? Там ведь в каждой долине по три разных народа живёт. И все они – россияне. Вот Мамед Халилов, например, – пишет на русском языке, значит, он – русский поэт, просто родом из Дагестана. А Магомед Ахмедов – аварский поэт, но русский писатель. Стихи он пишет на аварском, но в прозе и в общественной жизни он развивает русскую литературу. Я не знаю аварского языка, да и вообще, кроме русского без словаря, я другим языкам не внемлю, к сожалению. Всегда завидовал билингвам – людям, которые, как ты, могут свободно говорить и думать на разных языках. У вас, как говорится, в два раза больше «оперативная память», ваш внутренний мир намного шире, цветастее и многозвучнее.
Я, например, всю жизнь пытаюсь освоить английский, примитивные песни «битлов» я ещё понимаю, а вот Киплинга с трудом, не говоря уж о Толкиене. Поэтому я с белой завистью отношусь ко всем россиянам, у которых как минимум два родных языка.
К.Г.:
– И поэтому ты не считаешь переводы хорошей поэзией?
А.Ч.:
– Я не доверяю переводчикам. Особенно нынешним. Люди, не знающие национальной культуры, традиций, мифов и легенд источника, не могут адекватно переводить стихи. Не имеют права. Особенно если и с русским стихосложением у них беда. Вот в том же Дагестане все чтят Сулеймана Стальского. Есть у меня его книга 1935 года издания. Худшего пасквиля на Сталина и Советский Союз и придумать нельзя. Наверное, для лезгин на родном его поэзия звучит как услада, но всё, что издано на русском, – это какая-то литературная диверсия и повод для анекдотов.
К.Г.:
– Да, наверное, ты прав. Я и сам постоянно сталкиваюсь с этой проблемой, когда кто-то пытается переводить мои стихи с азербайджанского на русский. Я раньше доверял только Владимиру Топорову, а теперь, пожалуй, лучший мой переводчик и отчасти соавтор – Александр Кердан. Ещё, на мой взгляд, остались хорошие специалисты Владимир Бояринов и Мамед Халилов, а вот среди молодых я не назову ни одного имени. Я и сам, когда переводил на азербайджанский стихи Максима Замшева, твои или Щербака-Жукова, не раз советовался с коллегами, уточнял некоторые детали. Чем проще на первый взгляд стилистика, чем точнее исходная рифма, тем сложнее передать метафоричность языка, пытаясь сохранить суть текста и внутреннюю музыкальную гармонию стиха.
А.Ч.:
– Мы не раз обсуждали эту проблему с Владимиром Бояриновым. В последние годы практически умерла русская школа литературного перевода с языков народов России. В Литературном институте уже нет тех спецкурсов, а национальные университеты в республиках готовят, скорее, технических переводчиков. Поэтому, кстати, и наши чиновники настороженно относятся к современной переводной литературе. Вот и в книге Магомеда Ахмедова некоторым доморощенным цензорам даже при упоминании традиционных атрибутов горской пасторали – бурки, кинжала, горской чести и независимости – всё видятся призывы к сепаратизму.
К.Г.:
– У нас в Западной Сибири тоже порой возникают такие вопросы. Ведь исконные, потомственные нефтяники – это в основном азербайджанцы, чеченцы, татары, башкиры. И у каждого свои традиции, своя поэзия. А приезжает к нам чиновник по культуре из столицы и удивляется, не может понять, что у нас климат суровый и работа тяжёлая. В таких условиях все становятся побратимами не на словах, а на деле. И как раз у нас в Сибири востребована хорошая поэзия. Естественно, на русском языке, но с национальным колоритом.
А.Ч.:
– Ага, мне помнится, у вас в Пыть-Яхе азербайджанских кафе и ресторанов больше, чем в Москве?
К.Г.:
– Это потому, что ты был моим гостем. Но заметь, что и в Югре, и в Дагестане, и в Башкирии или Чечне любят стихи именно на русском языке и песни русские поют. Сейчас даже модно стало делать популярные мелодии с национальным колоритом, но с русским текстом, хотя и с нарочитым акцентом. Мы все трудимся на благо России, и русский язык не просто объединяет нас, он делает нас сильнее. Кстати, и в моём родном Азербайджане русская поэзия очень востребована. Мне часто приходится переводить на азербайджанский русских, татарских, дагестанских поэтов. Естественно, с русского языка.
А.Ч.:
– Вот мы и вернулись к теме правильных переводов. Русский язык не только государственный, он становится основой подстрочных переводов. Например, если нужно перевести стихи Магомеда Ахмедова на башкирский или азербайджанский, то сперва потребуется русская версия как посредник. Ну не знаю я ни одного профессионального трёхъязычного поэта.
К.Г.:
– Да, это действительно сложный вопрос. Если сегодня не существует государственной программы литературного интернационального перевода, то, наверное, нам самим – писательскому сообществу – нужно озаботиться созданием какой-то единой базы подстрочников, школы литературного перевода.
А.Ч.:
– Чтобы прочёл меня по всей Руси великой всяк сущий в ней язык.
Княз Гочаг, г. Пыть-Ях (ХМАО-Югра)