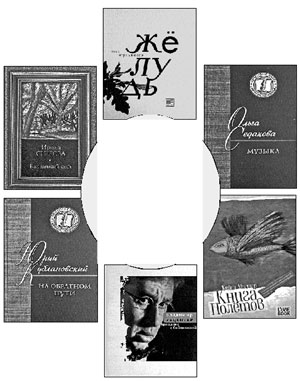Внезапный свет. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2007. – 412 [5] с.
Жёлудь: Книга стихотворений. – М.: Время, 2007. – 80 с.
Музыка: Стихи и проза. – М.: Русскiй мiръ, ОАО «Московские учебники», 2006. – 480 с.: портр. – (Литературная премия Александра Солженицына).
На обратном пути: Стихи и статьи. – М.: Русскiй мiръ, ОАО «Московские учебники», 2006. – 480 с.: портр. – (Литературная премия Александра Солженицына).
Прощание с библиотекой: Книга стихов. – М.: Время, 2007. – 368 с. – (Поэтическая библиотека).
Книга полётов / Пер. с англ. С. Чередова. – М.: Гаятри, 2007. – 224 с.
В длинные новогодние каникулы хочется читать стихи не «по работе»,
а для себя и потому – быть субъективной. Да только так и надо читать стихи! «Нравится – не нравится» в разговоре о поэзии посильнее любых литературоведческих аргументов… Пять поэтических сборников и один роман, который хотя и написан прозой, но по большому счёту проходит по ведомству поэзии. Шесть авторов, шесть магических кристаллов, шесть версий бытия…
ТИХАЯ МАГИЯ
Жаль, что сборник Ирины Снеговой не снабжён биографической и библиографической справкой. Поэтесса родилась в 1922-м, была известна, почти знаменита в 60-е, жила переводами с языков народов СССР, умерла в 1975-м, доселе не переиздавалась. Писала «тихую лирику» – о любви, о женском быте, о детях, о красоте мира. Забыта? Ну нет.
Жив-здоров. Не глядишь на другую.
Вот и всё. Остальное стерплю...
Не грустишь? Но и я не тоскую.
Разлюбил? Но и я не люблю.
Просто мне, чтоб по белому свету
Подыматься дорогой крутой,
Нужно верить, что дышишь ты где-то,
Жив-здоров... И не любишь другой.
В 60-е девушки переписывали эти стихи в тетрадки, в 2000-е выкладывают на своих страницах в Интернете. Для современных молодых женщин строки Снеговой звучат как откровение, поверенное личным опытом. А среди самых цитируемых стихотворений и это, такое «несовременное»: «У нас говорят, что, мол, любит и очень, / Мол, балует, холит, ревнует, лелеет… / А помню, старуха соседка – короче, / Как встарь в деревнях говорила: жалеет». В Сети имя Снеговой постоянно встречается в девичьих дневниках, но не на сайтах, посвящённых литературе. Это не читательское забвение, а досадная забывчивость специалистов.
Здоровые бытовые стихи. С хорошей психологией. На первый взгляд – мало магии. И та, что есть, – бытовая: «Я смотрю, как быстро и искусно / Рубят в поле женщины капусту. / В этих грядках, сизых и лохматых, / Говорят, и нас нашли когда-то… / Я лежала на листе капустном, / Хрусткий холод чувствуя спиною, / Медленно, торжественно и пусто / Небо проплывало надо мною. / И тогда она ко мне склонилась, / Мать моя, от ветра заслонила…» И у меня рождается ложное (?) воспоминание о холодном, неуютном листе и таком же небе, которое вдруг исчезает, и вместо него появляется бесконечно доброе лицо, и большие тёплые руки уже согревают спину… Нет, магии достаточно, но и она тихая, неброская, неэстрадная. Вечная.
ЭССЕ В ВЕРЛИБРЕ
Вторая книга стихотворений Глеба Шульпякова. Новое и старое. Рифмованные стихи мне не глянулись: грамотные слова-слова-слова, бедно интонированные, говорящие, наверное, что-то уму и сердцу самого поэта… Но единственное, что у меня как у читателя такие стихи вызывают, – так это «радость узнавания», ощущение «где-то я это уже видел». Таких стихов нынче много пишется: «когда не останется больше причин, / я выйду в сугробы ночного проспекта, / где плавают голые рыбы витрин / и спит молоко в треугольных пакетах, – / в начале начал, где звенит чернозём, / я буду из греков обратно в варяги, / и женщина в белом халате подъём / сыграет на серой, как небо, бумаге». М. Гаспаров как-то написал: «Из меня будет хороший культурный перегной». Михаил Леонович был истинным интеллигентом и потому скромным человеком. «Культурным перегноем» будут не его труды, а такие стихи Шульпякова: «но стрелы падают сквозь тучи, / не достигая колыбели, / по-колыбельному певучи, / неотличимые от цели». Цель – это колыбель? Стрела неотличима от колыбели? Звук летящей, звенящей стрелы неотличим от тихого поскрипывания? Но если стрелы падают, а не летят, только что сорвавшись с тетивы, они вообще безмолвны… И проч.
Нерифмованные поэмы Г. Шульпякова куда любопытнее (а если и с элементами рифмы, то повествовательные, как «На старом кладбище в Коломенском...»). Интересные сюжеты. Тонкие, точно увиденные детали, например вот роспись в храме: «друг за дружкой, как блокадники, пророки со святыми лепятся»… Правда, не оставляет мысль: что, если это проза? Точнее, эссе в верлибре. Г. Шульпяков может попытаться запатентовать новый жанр. Конечно, это заявление легко оспорить, сказав, что верлибр – он верлибр и есть. Но верлибр бывает настолько разным, что в его свободе вполне можно различать разные степени и качества ограничений.
«БИНОКЛИ» ИЛИ «ВИТРАЖИ»?
Оба «премиальных» сборника – Ольги Седаковой и Юрия Кублановского – фундаментальны. Из ранних и новых стихов, из разных книг, речи и выступления, беседы, эссе, статьи, подробные биографические справки. Полноценные портреты не двух поэтов, а двух человек. И не просто портреты, а даже голограммы.
Прозаическая часть книги Ольги Седаковой филигранно умна. Стихотворная – тоже умна, а ещё и заумна, хотя никакого отношения к хрестоматийной «зауми» футуристов не имеет. Поэзия О. Седаковой представляется мне величественным зданием вроде католического собора. Изысканная форма, гулкие залы, камни – ключевые понятия: «вещество», «зрение», «вода», «любовь», «слеза», «звезда», «сердце», «существо», «сад», «свет», «тьма», «огонь», «душа», «жизнь», «свеча», «взгляд», «смерть», «сон», «разум», «смерть», «время», «земля»… В этом соборе живёт Бог, но лично мне не хватает прихожан. Живой несовершенной жизни, шёпота и кашля во время мессы… «Добрый вечер, милая, свяжи / что с чем хочешь, / покажи / что не жалко: твоего названья / я не знаю. Пусть оно – «сиянье», / пусть – «бинокли» или «витражи»». Красивый волнующий рисунок. Но что он изображает? Что с чем связано? В общем, я тоже не знаю названья изображённого. Немногие стихи О. Седаковой мне открыты. Но одно из немногих – одно из любимых. Это:
Я не могу подумать о тебе,
чтобы меня не поразило горе.
И странно это – почему?
Есть, говорят, сверхтяжёлые звёзды.
Кажется мне, что любовь тяжела,
как будто падает.
Она всегда
как будто падает –
и не как лист на воду
и не как камень с высоты –
нет, как разумнейшее существо,
лицом, ладонями, локтями
сползая по какой-то кладке…
Действительно, когда любишь, нет ничего страшнее, чем начать разлюблять, «сползать» с высоты, с накала чувства. На «высоте» хочется удержаться любой ценой… Немного смущает только это «по какой-то кладке». «Лицо, ладони, локти», наверное, сказали бы о той стене больше – они знают каждую её шероховатость, выщерблину, островок мха…
ХРАНИТЕЛЬ ИСТОРИИ
Юрий Кублановский – немногий из современных поэтов, к которому Эрато приводит с собой сестру Клио. История органично вливается в поэзию. Это не «стихи на историческую тему». Это «стихи на личную тему», а история России – часть личной жизни поэта. Точнее сказал о Ю. Кублановском Иосиф Бродский: «…поэт, способный говорить о государственной истории как лирик и о личном смятении тоном гражданина». А сам Ю. Кублановский заметил в одном из интервью: «Поэзия… – хранитель истории». В его случае это действительно так. Даже интимнейшие переживания нерасторжимо связаны с – тогда – политикой, сейчас уже – историей России. Как тут: «Я сжимал здесь руку Елены М. / лет пятнадцать с лишком тому назад, / в год, когда почти пустовал престол, / толковали что-то про новый нэп, / хоть и было видно: король-то гол». Или здесь: «и в отруби Никите Лысому / не смели подмешать отравы… / …А под Москвой за речкой снежною… / глаза горели карим блеском. / Ты не была ещё единственной, / но начинало так казаться. / Пустот души твоей таинственной / ещё никто не смел касаться».
«Памяти Годуновой» – именно «памяти», как будто царевна Ксения, умершая в 1622 году, – близкий, знакомый поэту человек, «Восьмистишия» посвящены Павлу (Первому), тоже как знакомцу. И даже по стихам, которые в год написания были констатацией реальности, спустя время можно изучать историю.
…сотвори скорей знаменье крестное,
Если вдруг померещится…
Тень дельца теневой экономики
Во плоти…
…обнадёжит мольба, что колодники,
серый конгломерат лагерей –
нынче наши заступники, сродники,
сопричастники у алтарей.
Трудно представить, как можно сплавить в одном тексте такие разные лексические пласты, «теневую экономику», «конгломерат» и – «крестное знаменье», «сопричастников», «заступников». А вот у поэта получилось.
Стихи, не гусиным пером написанные, – нацарапанные зазубренным ножом. С усилием, не поддающиеся переписке. Отсюда прихотливый рисунок стиха, инверсии, затемняющие смысл, но обращающие почти прозу – в поэтическое заклинание. Вот как без инверсий: «Всматриваясь в своё небытие пристальней, чем мечталось прежде, жизнь, хоть и была бы рада тихо уйти в запас, замерла на этой страшной передовой (где запашок снарядов держится посейчас), будто бобёр перед норой над тёмной Летой». Похоже на плохой перевод с французского, что ли, вычурно и так вопиюще не сочетаются «небытие», «мечталось прежде», «Лета» с «бобром», «уходом в запас» и «запашком снарядов».
А вот как у Ю. Кублановского:
Всматриваясь в своё
пристальней, чем мечталось
прежде, небытиё,
где запашок снарядов
держится посейчас,
хоть и была бы рада
тихо уйти в запас,
будто бобёр над Летой
тёмной перед норой,
жизнь замерла на этой
страшной передовой.
Стройно, горько, спокойно. Фраза без инверсий удивительно старомодна. Стихи – современны. Ведь это – «Четвёртое октября» 93-го, «прямой наводкой в центре Москвы». Стихам – верится.
В книге есть и «грубые» следы биографии – стихотворение «Письмо» («Если вырвусь я из железных лап») дано с пометкой: «конфисковано при обыске 19 января 1982 г. Восстановлено по памяти».
Статьи – публицистически заострённые. Герои размышлений – Тютчев, Розанов, Леонтьев, Иван Ильин, Лев Тихомиров, Пётр Струве…
ЧЕХОВ В СТИХАХ
На обложке – Владимир Рецептер в роли Чацкого. Актёр и режиссёр, писатель, литературовед-пушкинист. Когда у В. Рецептера стали выходить поэтические книги, критики принялись каяться, что всю жизнь видели в нём прежде всего актёра, хотя и хорошо пишущего, и вот пришло время признать, что В. Рецептер – «полноценный» поэт, несмотря на другие его таланты и занятия. Словно у человека может быть две ипостаси. Связь даров тоньше. В. Рецептер был бы другим поэтом или вообще не был бы им, если бы не был актёром и режиссёром. Лучшие его стихи – сюжетные, содержащие в себе новеллу. «Артист Кафтанов не был гением», «Премьер хотел жену зацапать», «Лётчик», «Благодарность Лорду Саутгемптону», «Ван Дейк», «С.С. Карновичу-Валуа», «Фина Низамова», «Был отпуск отцовский короток…», «Отец», «Как въехали, так дверь не запирали», «А эта целовалась лучше всех…», «Рассказ»… По прекрасной, нерасчленяемой анализом и потому таинственной простоте, жёсткости, грусти и зримости эти стихи-новеллы – почти чеховские. Чехов в стихах. Эти стихотворения хорошо читать со сцены, и не чтецу, а актёру. Они сценичны, это монологи. Да и как актёр В. Рецептер тяготеет к жанру моноспектакля. Читая эти строки, не могу не представлять В. Рецептера у рампы, и стихи звучат в моей голове его голосом. Актёр может уйти со сцены, но он нашёл способ вечно оставаться на сцене читательского сознания – с помощью стихов.
Интимная лирика пронизана добротой. Если о возлюбленных – покаянно, без самолюбования, без тени укора. Если о животных – с необыкновенной теплотой и любовью-жалостью, что особенно наглядно видно в «Двух стихотворениях» о смерти щенка, «Цапле на озере Маленец»… Ещё одно стихотворение процитирую как одно из моих любимых:
Как постарели лошадь и овчарка!
Мы видим, как впервые за пять лет
Конь падает, не от жары – нежарко,
А пёс не может влезть на табурет.
Мы всё жалеем их за скоротечность
Их жизней, будто сами рождены
Не стариться а так как есть, на вечность
За этою землёй закреплены.
А нас жалеют лошадь и собака,
У них одна забота на двоих:
Как эти люди проживут, однако,
Ещё так много лет, и всё без них!
Завершают книгу «драматические сцены» «Монарх (Пётр и Алексей)» по пушкинским мотивам «Истории Петра». Автор словно хотел написать эти сцены так, как это сделал бы создатель «Бориса Годунова». И тут неразделимы поэт-драматург и актёр: художественное произведение В. Рецептер создавал, находясь «в образе» своего любимого поэта.
МОЗАИКА ИЗ ПРОЧИТАННОГО
Это роман. Но о поэтах и для поэтов. Здесь всё поэтично – от сюжета до диалогов. От облика героев до их меню. Для прозы это непривычно. Сначала даже кажется, что история уж очень литературная: главный герой, поэт и библиотекарь, выглядит тютелька в тютельку так, как подобает романтическому герою, архетипичны белый город у моря, бесконечный дремучий лес… Но вскоре становится понятно, что узнаваемость мотивов здесь – не нехватка жизни. Просто оригинальный узор сюжета сложен, как мозаика, из осколков прочитанного.
Роман Кейта Миллера о любви, которая сильнее смерти. О том, как соединить жизнь в искусстве с жизнью живой, безыскусной. О том, как поэт обрёл настоящие крылья. Ради любви герои покидают родину и встают из могилы, убивают других или себя, уходят в долину смерти и теряют способность умереть. Или, становясь всё прозрачнее («со временем распознавать друг друга они могли лишь осязанием и, обнявшись, выискивали на фоне ландшафта глаза, губы, уши, родинки»), поцеловавшись, растворяются друг в друге. Слишком сентиментально? Нет, так не назовёшь историю, в которой герою приходится спасаться от голода поеданием человеческой плоти. Слишком жестоко? Тоже неверно, так не сказать о сюжете, в котором бессмертного людоеда можно уговорить отказаться от его гастрономических предпочтений, да и от бессмертия, посулив ему поцелуй любви.
Перевод не позволяет оценить качество стихов, щедро рассыпанных по тексту, но вполне передаёт множество изящнейших афоризмов и густую образность языка: «Этой ночью их голоса  то срывались на крик, то заходились рыданиями. Пико ничком барахтался среди страниц. Нарья разгребала сваленные грудой книги. Из вечной неразберихи разума извлекали они длинные клинки фраз, кидая друг другу, как вызов, или выхватывали отдельные слова, более драгоценные, чем самоцветы, и рассыпали их по полу, а те перекатывались бусинами лопнувшего ожерелья. Фрагменты историй из книг и собственные переживания цеплялись друг за друга так, что правду о странной жизни каждого уже было не отличить от вымысла».
то срывались на крик, то заходились рыданиями. Пико ничком барахтался среди страниц. Нарья разгребала сваленные грудой книги. Из вечной неразберихи разума извлекали они длинные клинки фраз, кидая друг другу, как вызов, или выхватывали отдельные слова, более драгоценные, чем самоцветы, и рассыпали их по полу, а те перекатывались бусинами лопнувшего ожерелья. Фрагменты историй из книг и собственные переживания цеплялись друг за друга так, что правду о странной жизни каждого уже было не отличить от вымысла».