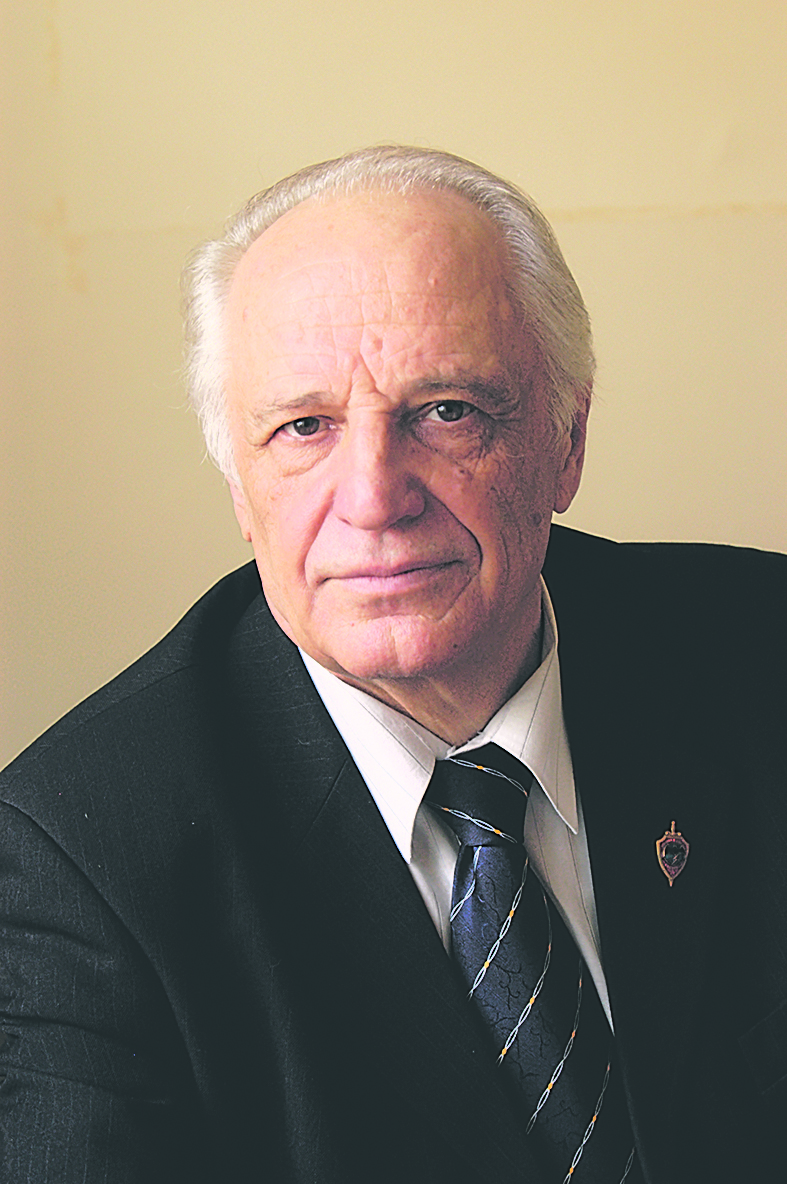
Жалобы предела не имеют
На судьбу, на службу и на власть,
Ну а боль, горя и пламенея,
У меня под сердцем запеклась…
Стихотворение написано в 1964 году, к этому времени Валентин Сорокин был уже автором нескольких книг, и уже тогда определились основные темы его поэзии. И тут мы подходим к главному, что является, на мой взгляд, определяющим в творчестве Валентина Сорокина.
Об этом главном он сам прямо говорит в книге «Крест поэта»: «Я услышал державность и не отдам её никогда. Я знаю поэтов, упёршихся в огородик – сторожа бахчей… Знаю поэтов, рифмующих добротную усидчивую прозу. Сейчас они – классики. В народе им – не быть…»
Где истоки державности в творчестве поэта?
Валентин Сорокин родом с Урала, из знаменитого казачьего рода. Предки его сражались на Куликовом поле. На долю отца поэта выпало воевать на полях Великой Отечественной, он был ранен несколько раз, домой вернулся на костылях.
Ратники, защитники земли русской. Валентин Сорокин – тоже воин, только поле битвы его другое: «Иноземцу меня не осилить. / И уже невозможно пресечь, / Я недаром родился в России / И пою её горе и меч…»
Из щедрых родников природы черпал свои образы, у родной земли, напоённой кровью русских воинов, в том числе и своих предков, у солнца, эту землю прогревшего, набирался поэт силы: «Нам, русским, квёлость незнакома, / У нас издревле вкус такой: / Весна – с капелью, с ливнем, с громом, / Зима – с морозом и пургой. / Брататься – радости и беды / Делить жестоко на двоих, / А воевать – / Так до победы, / До смерти недругов своих».
Десять лет Валентин Сорокина проработал в 1-м мартене Челябинского металлургического завода. Огонь природный – огонь рукотворный. Золото зорь и расплавленный металл. Валентин Сорокин много писал о мартеновском огне. «И ничьей рукой не избалован, / Видел я за сталью и огнём – / Мой подсолнух золотоголовый / Наклонился дома над плетнём…». Мысль в этом юношеском произведении заложена более глубокая, чем традиционное противопоставление города и деревни, естественности и бездуховности. Золотой подсолнух и огонь мартена подспудно воспринимаются как соединение в душе человеческой красоты природы и красоты огня рукотворного. Без огня «горячего цеха» не может жить страна, крепить своё могущество. Без него не вырастить хороший урожай, а значит, оскудеет родной дом с золотым подсолнухом.
В 90-е закрываются один за другим заводы, умирает промышленность. Поэт пишет: «В 1-м мартене Челябинска, около десяти лет я, взятый железным огнём и пылью, тосковал о соловьях и кукушках, рисуя их воображением, родных и доверчивых. Но огонь – лишь круглый дурак не признает. Мартеновский огонь – высочайшее мастерство. В содружестве с ним спасти землю можно. Без него ни колесо, ни пропеллер не загудит. А каменным молотком – лишь каскоголовых пугать. Демофашисты, гася коксохимы и домны, вредят, уничтожают Россию…»
Яркие чистые цвета использовали древнерусские иконописцы. О пребывании в вечности свидетельствуют на русских иконах и нимбы вокруг голов изображённых, и окружающие их золотые, алые, серебряные фоны – символ негасимого вечного света. Отблески этого горнего света – и в русской поэзии. И в стихах Валентина Сорокина – отблеск вечности. Синь и свет как отражение немеркнущего света неземного.
Чего судьба мне только не давала,
А жизнь моя, как прежде, нелегка.
…Оплаканные синью перевалы,
Наполненные солнцем облака.
Представление о вечности у поэта связано в первую очередь с красотой земной – с красками летних лугов, солнечного неба, с любимой женщиной: «Ведь когда зашумят цветы / На своём языке бессмертном, / Станешь облаком красным ты, / Ну, а я – синекрылым ветром».
Поэтический космос Валентина Сорокина наполнен движением. Облаков, туч, воды, полётом птиц, плеском ветвей на ветру. Голосами наполнен – людей, птиц, звоном ручьёв, гулом рек, раскатами грома, шумом дубрав. Это живой мир, где стихии земли, воды, воздуха и огня находятся в непрерывном взаимодействии.
Сорокин – поэт истинно русский, отстаивающий русскую идею. И тут не обойти тему противостояния, тему болезненную для каждого, кто служит Слову. И противостояние это не сводится к борьбе почвенников и постмодернистов. Оно гораздо глубже, и касается общего направления, в котором будет развиваться русская литература.
В начале XX века новаторы от литературы в пылу страстей предлагали сбросить Пушкина с корабля современности. В начале века XXI осмысление русской судьбы объявлялось темой, достойной этнографического музея. При этом низводилось само Слово, сводилась к нулю божественная сущность его.
Валентин Сорокин так писал о подобных тенденциях: «Стихи поэта не должны, мне кажется, иметь посторонние черты, или черты чужой генетики: дети, не их отцом зачатые, – травмированные существа. Русская поэзия – летящая, нахлынувшая стихия, организованная в рифму, строфу и мысль. В Пушкине, Лермонтове, Некрасове, Тютчеве, Блоке, Есенине, Васильеве, Корнилове, Твардовском, Фёдорове, Ручьёве – вздох Разина, тайна Сергия Радонежского, зоркое полководчество Кутузова. Как в самом народе великом – стихия и державность, покорность и вольнобуйство… Есть поэты, так и не «вышедшие замуж», – старые девы: мол, я чистенький, никому не «отдался», ни коммунизму, ни капитализму. А нужен ли ты кому?» («Крест поэта»).
В свете сказанного очевидно, что от поэта требуется, с одной стороны, смелость, отвага, с другой – величайшая осторожность и чувство меры: любой перекос в сторону публицистичности способен свести на нет усилия художника, разрушить тонкие сплетения поэтической ткани. Сколько таких аккуратно зарифмованных, правильных, нравоучительных, на первый взгляд, а на деле, мертворождённых произведений заполняют и Интернет, и страницы журналов. Сколько таких же мёртвых, но со знаком минус, несущих зло и разрушение. И те и другие страшно далеки и от Красоты, и от Поэзии как таковой.
Поэт – явление редкое. Поэтов мало. Поэт – выразитель Истины. Поэт – Слово, которое даёт Бог народу, чтобы тот мог осознать себя и вынести все испытания, которые выпадают на его долю, чтобы мог увидеть красоту, которая живёт вокруг. Поэт – выразитель красоты, живущей в народе. Поэт – выразитель народных чаяний и стремлений. Поэт – совесть народа. Он приходит, как святой, когда настаёт срок. Поэт оставляет сияющий след.
Когда мне говорят или я читаю в прессе о каких-то неведомых молодых поэтах, которые в огромном количестве у нас живут, чуть ли не в каждом селе по поэту, а в городах и вовсе – тьма тьмущая, я не верю. Верю, что есть много людей, пишущих стихи, среди них есть такие, которые делают это более или менее удачно. Но доказывать, что ты поэт, приходится всей своей судьбой. Это такая ответственность, такой труд и такая боль, что далеко не каждому по плечу. И многие достаточно талантливые люди отрекаются от своего призвания.
Валентин Сорокин остался верен своему призванию, и всю свою жизнь пытался донести до нас, читателей, красоту мира и трагичность его. Жизнь хлещет в его стихах через край. Взахлёб признаётся он в любви к женщине, к родной земле, о которой он говорит: «Земля моя, ты – избавленья меч. / Ты – жизнь, / Ты – совесть высшая на свете, / Ты – русская чарующая речь».
Обладая богатствами этой земли, напоминает он, следует помнить о главном – «Лишь забывать нельзя / Вести себя с достоинством, по-русски».
К сожалению, многие соотечественники мои забыли об этом. Вот она, боль! Мат, осквернение святынь, зло, ненависть окружают нас, сдавливают горло, так что тяжело становится дышать.
Следуя лучшим традициям русской поэзии, автор не замыкается в сфере чисто художественных интересов, хотя отказать ему в богатстве и образности языка нельзя. «Русская чарующая речь» для него не только способ мышления, не только средство донести свои идеи. Это для Валентина Сорокина сама жизнь, сама Поэзия.
Кресты на русских могилах у Валентина Сорокина – не только боль о вымирающем народе, не только боль собственных утрат, не только страх забвения, но и источник силы и мужества: «В миг, когда и я теряю силы, / Если рядом нету никого, / Я касаюсь мысленно могилы / Прадеда и деда моего». И – сближение поэтической мысли с Пушкинской – «самостоянье человека, залог величия его» – в памяти и любви к «отеческим гробам».
В 2003 году в московском издательстве «Алгоритм» вышла книга Валентина Сорокина «Биллы и дебилы: Роман в ярких документальных рассказах». Название книги на редкость «говорящее», гротесковое. В ней вылилась вся боль поэта, весь гнев его по поводу творимого на нашей земле зла. И всё же книга эта – прежде всего о любви.
«Россия моя ненаглядная, печаль моя вещая, любовь моя бессмертная, самим Иисусом Христом врученная мне, а матерью моею выпестованная, давно и не раз я обманут, давно я и непоправимо сед, дети мои скоро засеребрятся, волосы их русским светом опыта овеются, но я, как ребёнок, лишь оторви меня от груди твоей, Россия моя золотоволосая, и я умру…»
Читаешь такое и, честно говоря, сердце переворачивается. Невозможно такие чувства выдумать, невозможно так солгать перед людьми, перед Богом!
Читая Валентина Сорокина, невольно думаешь о прошлом нашей Отчизны, о русских былинах, о богатырях русских. Удивительно цельный (что особенно заметно на фоне современной фрагментарности мышления) мир предстаёт перед нами. Чётко прослеживаются исторические связи. Тяжёлая поступь эпических поэм («Евпатий Коловрат», «Дмитрий Донской», «Бессмертный маршал», посвящённая Георгию Жукову) тоже несколько необычны для дня сегодняшнего.
У Валентина Сорокина взгляд человека, для которого история современна. Есть у него в стихах воздух, объём, где прошлое и настоящее существуют бок о бок. Вот несколько строк из поэмы «Бессмертный маршал»: «И на холмах над Вязьмой пушки, пушки. / И танки наши в гари и пыли. / И древнее рыдание кукушки, / Как будто плачет чья-то мать вдали».
Это древнее рыдание кукушки словно откуда-то из Древней Руси до нас донеслось- долетело, и отзвук плача Ярославны в строках этих, и прежних битв, о которых с суровой простотой сообщали русские летописи: «Лежат бойцы недвижно на опушке. / Свежит цветы кровавая роса. / И древнее рыдание кукушки. / И древние над Русью небеса».
Всего два эпитета – «древний» и «кровавый». Но насколько они точны и выразительны!
Хочется особо сказать о роли Валентина Сорокина как организатора, собирателя, объединения талантливых людей. В 1963 году он приезжает в Москву для учёбы на ВЛК, где занимается в поэтическом семинаре под руководством критика Александра Макарова. А через 20 лет он возвращается в Литературный институт, чтобы учить и помогать другим. В 1983–2014 гг. Валентин Васильевич руководит Высшими литературными курсами.
ВЛК – явление особое. Сюда приезжали учиться не мальчики и девочки, часто не имеющие за душой ничего, кроме амбиций и нереализованных творческих возможностей, а взрослые, вполне сформировавшиеся личности. И вот этих людей, с разной степенью одарённости, с разными, обычно нелёгкими характерами, собирали вместе.
И огромная заслуга Валентина Сорокина в том, что он помогал сохранять хрупкое равновесие в отношениях. И помогал, и наставлял, и защищал.
Стипендия была крошечная, многим приходилось подрабатывать. И Валентин Сорокин шёл нам навстречу, помог многим получить стипендию от Союза писателей. Пока учились, постоянно бывали на литературных праздниках, поэтических вечерах. Благодаря Валентину Васильевичу я и мои товарищи побывали на родине Сергея Есенина, любимого поэта Валентина Сорокина.
…Перед лицом Вечности каждый человек, а поэт в особенности, задумывается о том, что оставит он своим потомкам. В своём интервью журналу «Российская Федерация сегодня» Валентин Сорокин сказал: «Для меня Россия – это до самой смерти моей чёткий, точный ход к кресту моей матери. К молодости матери моей, к красоте матери моей. Это я иду на свет русский, во имя России. Но вот упаду – упаду. Но я не упаду, а приду!»
Всю жизнь в творчестве своём Валентин Васильевич Сорокин отстаивал Россию, воспевал красоту её, доблесть, доброту и святость – лучшее, что есть в нашем народе. Стихи – это его молитва о России. И надежда, что она будет услышана нами – современниками поэта, а в будущем – его потомками.
Вот сомкну ресницы – крест приснится,
Дедовский, упрямый и большой.
Разве соглашусь я примириться
С ненавистью, властной и чужой?
К Родине склоняюсь головою,
Знаю, Бог мне указал перстом
Стать землей, молитвою, травою,
Эхом стать
в моём краю пустом.
