Интервью с поэтом и переводчиком Эдуардом БАЛАШОВЫМ
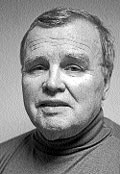 – Эдуард Владимирович, вы уже более тридцати лет занимаетесь переводческой деятельностью. В чём таинство перевода?
– Эдуард Владимирович, вы уже более тридцати лет занимаетесь переводческой деятельностью. В чём таинство перевода?
– Будем исходить из того, что соизмеримость действия с красотой даёт формулу жизни, формулу творчества: кто не творит, тот и не живёт, а существует – только готовится к жизни. Художественный перевод для меня – полноценный творческий акт. Слово «поэзия» в переводе на русский означает «творение». А поэт – творец. Именно поэзия вызывает к жизни и «творит» поэта. Поэтому творчество – не личное дело поэта, а всегда сотворчество с музой, своеобразный «перевод» смыслов (обмен энергиями). Да и имя своё поэт ставит над своим стихотворением или под переводом, чтоб было с кого спросить за несовершенство, а не для признания.
Прежде всего нужно подходить к тексту поэта без высокомерия, даже с почитанием. Ведь под пером переводчика стихотворение получает новую жизнь и должно, сменив язык, остаться живым фактом мировой и национальной литературы. Филологический перевод (подстрочник) выявляет содержание стихотворения, но не формы. Переводу подлежат смыслы слов, а не сами слова. Форма всегда вторична по отношению к содержанию. Хотя если мысль ищет форму, то и форма ищет мысль. Уже не метр важен, а естественность звучания: новый язык должен обнажить и подводную часть айсберга – не только текст, но и подтекст.
Древние китайцы полагали: перевод на другой язык состоялся, если в произведение внесена адекватная жизненная энергия. Речь, вероятно, шла о вдохновении. Вдохновение устремляет всякий труд к совершенству и делает его творческим. Тогда слова найдутся сами, и не менее точные. Важнее войти в ритм, услышать внутреннюю музыку стихотворения, попасть в его смысловое поле, образно говоря, «встретиться с автором», минуя время и расстояние, «лицом к лицу». Сам творческий процесс осуществляется уже не в трёхмерном пространстве, где главную роль играет время, а в четырёхмерном, где нет времени (прошлое, настоящее и будущее сливаются в единую вечную вневременность). «Попадание» в ритм автоматически выявит метр, интонацию и, что самое трудное, композицию. Композиция – чувство целого – следствие закона соизмеримости. Как-то в городе Агра (Индия) я стоял перед дворцом Тадж-Махал. Может быть, я оказался в особой точке, откуда открывалась безупречная соразмерность строения, некая целостность, по отношению к которой каждая часть целого обретает свой смысл. Вскоре я заметил, что у меня стали случаться не свойственные ранее стихи и миниатюры. Я осмелился даже взяться за переводы великих поэтов, таких как древние китайцы Ли Бо и Ду Фу, корейский классик Ким Соволь, а также персидский поэт-суфий Руми. Кроме того, мне посчастливилось переводить значительных поэтов прошлого века: финна Тайсто Сумманена, удмурта Флора Васильева, чуваша Алексея Воробьёва.
Но самый главный секрет творческих удач – искренность. Именно искренность, как считал Платон, – причина мастерства, а мастерство он определял как неумышленный выбор художественных средств. Искренность, или сердечность, являет огонь сердца, который древние называли священным огнём, и не только совершенствует мастерство, но и, усиливая внутренний свет, утверждает творческий путь сердцем. Только одухотворение даёт силу творчеству. Каждая мысль, воплощённая без сердечного огня, лишена жизни. А слово, не утверждённое сердцем, пусто. Мысль становится поэтической только в сердечном напряжении. Это относится и к переводу, и к собственному творчеству.
– Обязательно ли знать переводчику язык оригинала?
– Хорошо бы знать, и знать как можно лучше, почти как родной. Но важнее знать глубоко и исторически свой язык, впитанный с молоком матери. Вообще мне кажется, идеал для переводчика – двуязычие, билингвальность, то есть знание с рождения двух языков, – явление сегодня нередкое среди авторов из национальных республик. Билингвальность расширяет сознание, духовно обогащает, ведь каждый язык – это летопись народной жизни, а словарь – история культуры этого народа. Но не вижу ничего дурного в переводе, как говорят, с качественного подстрочника. В этом случае надо признать автора филологического перевода соавтором художественного текста. Мне повезло: китайскую и корейскую поэзию я переводил вместе с докторами филологии Игорем Лисевичем и Ким Ре Чуном.
– Кстати, о национальных литературах. Как вы понимаете их единство и многообразие? И как это соотносится с русской литературой?
– Творчество – одно из главных условий сохранения и продолжения изначальной традиции, которая может быть определена как передача истины. Это свойственно всем народам. К тому же пора признать, что культура как культ Света на всех одна. Когда говорим о человеке хорошее – подчёркиваем его человечность. Когда говорим о культуре – подразумеваем, что это состояние, общее для всего человечества. Речь идёт не о фактах культуры: обычаях, верованиях, языках, – ибо каждое культурное действие преображает всю жизнь и адресуется всем. Часто говорят о диалоге культур, о синтезе культур, основываясь на том, что каждый народ имеет свою культуру. Вот в этом случае речь идёт как раз о своеобразном жизненном укладе, о народных обычаях или языке. Культура и есть великий синтез многообразной жизни человечества. Русская литература для народов России, как и русский язык, способствует продуктивному взаимодействию и обновлению народных литератур, не умаляя ни одной из них. Старших братьев в творчестве нет. Жизнь отвечает вызовам времени, реализуя принцип необходимости. Каждая литература живёт, как живёт сама жизнь. Конечно, народы не могут не общаться и существовать в изоляции. Творческое сотрудничество даёт им силу, сохраняя самобытность, стремиться к единству.
Мысль может показаться спорной, но, на мой взгляд, приверженность к традиции и относительная удалённость от прагматичных Европы и Америки позволяет народам России сохранять свою индивидуальность. А направленность в сторону этики делает их произведения более значительными. Хотя это не так очевидно, но, по-моему, Восток уже опережает Запад по многим эволюционным показателям. Поэтому России надо учиться у Запада, а перенимать на Востоке (слышал эту мысль в Индии).
– А как вам видится языковая ситуация в Центре и в регионах?
– Так уж исторически сложилось, что язык межнационального общения на постсоветском пространстве, конечно, русский. Но он ни в коем случае не мешает развитию национальных языков. А билингвальность, я уже говорил об этом уникальном феномене, способствует продвижению мышления от интернационального к наднациональному – шаг к истинному братству, братству не по крови, а по духу. Нераздельность в духе поможет народам противостоять хаотичным силам разъединения. Если вылить бочку масла в бушующую пучину, то шторм утихнет!
– Эдуард Владимирович, ни для кого не секрет, что переводческая школа сейчас находится в сложной ситуации. Что, на ваш взгляд, нужно делать для её поддержания и развития?
– Любимая поговорка Петра Великого: «Промедление смерти подобно». За последние пятнадцать лет ушли из жизни многие блестящие переводчики. Выход только один: растить новых. С таким же высоким уровнем профессионализма. В последнее время наблюдается некоторый возврат к достижениям советского периода. И правильно. Зачем отказываться от хорошего? Не буду приводить пример с помоями… Нужно многое, особенно в культуре, восстановить. Например, почему продолжают существовать несколько союзов писателей? Почему Союз переводчиков отделён от Союза писателей? Нет закона о творческих союзах.
Гордость Страны Советов – единственный в мире Литературный институт им. Горького – приравнен к общеобразовательным институтам, а это акт чиновничьего невежества. Он имеет кафедру художественного перевода прошлого века, а современная обстановка в стране требует расширения контингента именно писателей-переводчиков с языков народов России и Азии: Восток «катит в глаза», как сказал бы великий баснописец. Следует на базе Литинститута открыть ВЛК для переводчиков с языков народов России для укрепления связи литератур. Сегодня все народы мира смотрят на Россию с надеждой, интуитивно чувствуя её возрастающий культурный потенциал. Только Россия единая способна, как говорил Вивекананда, «повести за собой весь мир». Культурная Россия, разумеется. А для этого необходимо повысить статус культуры в государстве и обеспечивать её не по остаточному принципу, как сегодня, а создать федеральную целевую программу по культуре на основе мощной творческой (а не военной!) базы. Речь должна идти о создании единого культурного пространства, а может быть, и государства культуры.
– Каково ваше мнение о проводимой национальной культурной политике?
– Мне кажется, в настоящее время таковой вообще не существует, а если и существует, то в размытом виде и, скорее, на уровне персоналий и групп. Самое важное – получить широкий доступ к национальному культурному наследию, чтобы человек получил возможность совершенствоваться и приобщаться к творчеству. Необходимо срочно восстановить систему распространения книг русских писателей и писателей из республик. Появление приложения к «Литгазете» «Многоязыкая лира России», по-моему, очень своевременно: пробудился интерес к национальным литературам.
– Что лично вам как поэту дала переводческая практика?
– Прежде чем выразить чужую мысль, надо сделать её своей. И вообще умение выражать мысль, уже обретшую слова иного языка, приучает к точности родного слова, развивает чутьё и чувство ответственности. А ответственность – вершина выразительности как оригинального, так и переводимого текстов. И ещё – дисциплинирует. Дисциплина – неустанное веление совести: когда лень одолевает, совесть зовёт к труду. Дисциплина – это урок не знающего усталости Солнца. Оно каждое утро встаёт, хотя и не обязано как будто. Говорят, это заслуга индейцев. Они знают специальную молитву, чтобы Солнце завтра встало. Молитва эта передаётся из поколения в поколение. Индейцы верят: если не помолятся, Солнце не встанет. И берегут эту молитву и тех, кто её знает, как зеницу ока. Значит, если не ответить вдохновению, что-то должное может и не случиться...
– Эдуард Владимирович, это приложение посвящено литературе Чечни. Вам приходилось переводить чеченских поэтов?
– Да, мне посчастливилось переводить двух выдающихся чеченских поэтов, достойных войти в летопись мировой литературы: Арби Мамакаева (1918–1958), классика чеченской литературы, которому, кстати, в следующем году исполняется 90 лет со дня рождения, и его однофамильца Эдуарда Мамакаева. Арби Мамакаев создал, как сейчас говорят, знаковое произведение – удивительную поэму «В горах Чечни», посвящённую, как и трагедия Шекспира «Ромео и Джульетта», отношениям старшего и младшего поколений. Автор поднял в ней две важнейшие нравственные проблемы: кровной мести и закрепощения женщины. Навязывание своего образа мышления и предрассудков старшего поколения младшему, подавление самостоятельности и самодействия молодёжи может привести к трагедии. Старшие враждуют, младшие любят. На уровне сюжета молодые герои проигрывают, на уровне идеи – побеждают.
Беседу вела
