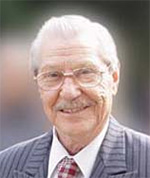Дмитрий Анатольевич Жуков был уникальный литератор, мыслитель, переводчик, яркий человек. Казалось бы, по отцовской линии ему суждено было стать нефтяником, но его влекло иное. Так и вышло потом, но прежде был фронт, военная служба, работа в Генштабе, разведка… Он – автор повестей и рассказов, «Русских биографий» (среди его героев, например, Александр Грибоедов, Василий Шульгин, Василий Верещагин и Дмитрий Скобелев). Он – знаток Персии, книгу «Иран глазами русского» с почестями встретили там, в том числе на самом высоком уровне. Жуков не писал в стол – всё, что выходило из-под пера, сразу брали в печать. Поэтому его вдова Ирина Аркадьевна сказала: вряд ли мы найдём что-то «из неопубликованного». Просмотрели множество папок, повезло. Например, отыскалась статья 1967 года о будущем ЭВМ – очень смело, проницательно. К тому же благодаря ей я узнал от Ирины Аркадьевны, что писатель был среди создателей первого в СССР «компьютерного переводчика». Возможно, эту статью «ЛГ» позже опубликует. Сегодня же – не печатавшиеся заметки о языке. Они передают интонацию писателя, его чувство юмора, человеческую теплоту.
Владимир Сухомлинов
«Есть притча короче носа птичья» – говорят в народе, что целиком и полностью можно отнести и на счёт каламбура. Вроде бы и слово нерусское, а, как явление, каламбур (без наименования) существовал в русском языке с незапамятных времён. И в любом другом тоже. Владимир Даль выразился коротко: «КАЛАМБУР м. франц. – игра слов, по двусмыслию, двоякому значению…»
Теперь уж и неважно, пошло ли это слово от имени графа Калемберга из Вестфалии, который острил или путал слова, то ли вырвалось со двора Людовика ХIV, то ли со двора бывшего польского короля Станислава Лещинского, обретавшегося в Люневилле. Называют ещё парижского аптекаря Каланбура. А то относят это слово к немецкому сборнику шуток Каленберга, изданному в 1500 году. Просмотрите «Моление» опального Даниила Заточника, жившего в XII веке, и найдёте там немало каламбуров. «… Кому Боголюбово, а мне горе лютое; кому Белоозеро, а мне оно смолы чернее; кому Лаче-озеро, а мне, на нём живя, плач горький; кому Новый Город, а у меня в доме и углы завалились» (перевод Д.С. Лихачёва).
У французов первый «Словарь каламбуров» издан в Париже в I860 году. Важно и то, что редко какой каламбур доживает до чести быть оттиснутым на бумаге или войти в большую литературу. Как и анекдот, он всецело принадлежит стихии устной речи. Да и лучшие из анекдотов построены на каламбурах. В разговорах каламбуры рождаются то и дело и забываются тут же, если не случится им быть занесёнными в записную книжку какого-нибудь известного человека.
Где читал, не помню, но засело в голове такое.
Знаменитый Ермолов был известный острослов. Язык доводил его даже до ссылки. Он командовал батареей, когда инспектором артиллерии был Аракчеев. На смотру приказали вывести батарею на позицию. Ермолов запоздал на несколько минут. Но лихие ухоженные кони вынесли батарею, и орудия чётко изготовились к бою. Аракчеев разбранил Ермолова за опоздание, но похвалил командира за содержание лошадей.
– Вот так, господа, – сказал, обращаясь к офицерам, Ермолов, – репутация офицера иногда зависит от скотов.
В письменном виде до нас дошли в основном каламбуры дворянского сословия, острословие людей пишущих, а уж как играли словами крестьяне, рабочие, купцы, о том можно лишь догадываться. Незаписанная речь вызовет живой отклик и забудется навеки, если не скажет кто-нибудь что-либо подобное в похожем сплетении обстоятельств…
Как тут не вспомнить Гоголя: «Выражается сильно российский народ!.. А уж куды бывает метко всё то, что вышло из глубины Руси, где нет ни немецких, ни чухонских, ни всяких иных племён, а всё сам-самородок, живой и бойкий русский ум, что не лезет за словом в карман, не высиживает его, как наседка цыплят…» И ещё добавил, что «нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырвалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово».
В языке угадываются черты национального характера. И то и другое меньше всего поддаётся неумолимо убегающему времени.
Мне довелось долго служить в армии, и я не знаю роты, которую не потешал бы записной остряк. Стоило ему рот открыть, как людей начинал разбирать хохот. Доставалось и приятелям, и начальству. Жить и служить было легче.
Вот старшина роты даёт команду «смирно», оглядывает ряды и грозно говорит:
– Кто там взаду вертится?!
– Земля, – слышится из строя.
– Кто это сказал? – спрашивает, оборачиваясь на голос, старшина.
– Галилей, – тотчас отвечают с другой стороны строя.
В этом коротком диалоге при желании можно усмотреть, по крайней мере, три вольных или невольных каламбура.
Жаль, если никто из моих современников не завёл, подобно Вяземскому, записной книжки специально для каламбуров, которые, в отличие от анекдотов, редко передаются из уст в уста.
А что уцелело в памяти?
Известный сценарист Алексей Каплер жил в Доме творчества писателей в Коктебеле на втором этаже, вставал рано, делал зарядку с гантелями, и стук их будил другого известного писателя, Олега Михайлова, любителя поспать, обитавшего как раз под Каплером. Как-то его спросили о самочувствии, и он тотчас ответил:
– Вам-то хорошо. Над вами не Каплер…
Каламбур очень злободневен и потому недолговечен. Его рождают находчивость и безупречное владение родной речью. Недаром создатели Козьмы Пруткова заимствовали каламбуры у автора «Конька-Горбунка» Петра Павловича Ершова, о котором Пушкин сказал: «Этот Ершов владеет русским стихом, точно своим крепостным мужиком». А сам Пушкин тоже был горазд на каламбуры, и самый известный – плод устной импровизации.
В.А. Соллогуб, выходя из книжной лавки Смирдина, стал сочинять:
Коль ты к Смирдину войдёшь,
Ничего там не найдёшь,
Ничего ты там не купишь,
Лишь Сенковского толкнёшь.
И Пушкин тотчас подхватил:
Иль в Булгарина наступишь.
Нам известны в основном литературные каламбуры, то есть рождённые за письменным столом, а они не столь непринужденны, не с языка скатились… Каламбурная рифма в стихах – тоже род литературных упражнений, если даже они чрезвычайно удачны, как у Минаева, который даже к финским скалам бурым обращался с каламбуром.
Вершиной русской каламбуристики, безусловно, следует считать незабвенного Козьму Пруткова. Он весь в традиции устной шутки. Самый первый афоризм вымышленного поэта построен на каламбуре:
«Обручальное кольцо есть первое звено в цепи супружеской жизни».
К собственному удивлению, обнаружил, что я и сам грешил каламбурами в книге «Козьма Прутков и его друзья». Иные из них натужны, слишком литературны, а другие сносны. Например: «Маленький Кузька получил прекрасное домашнее воспитание. Кузькина мать была справедливой, но строгой женщиной, и в этом последнем её достоинстве следует, очевидно, искать корни столь распространённого русского выражения, непереводимого на иностранные языки».
В каламбуре как бы сам язык подтверждает правоту высказывания. И не только подтверждает, но и усиливает. Оригинальная рифма легко запоминается, и когда звучит не просто шутка, а, скажем, политическая сатира, действенность её возрастает во много раз.
Порой каламбур был обезоруживающей защитой в самых рискованных обстоятельствах.
Так, известному артиллерийскому генералу Николаю Алексеевичу Аммосову, изобретателю, начальнику Сестрорецкого завода, приходилось жестоко воевать с артиллерийским департаментом, отстаивая свои начинания. Рапорты его были так резки, что генерал получил строгий выговор за их «неуважительный тон». Оправдываясь, Аммосов написал, что никогда не терял уважения, ибо знает, что артиллерийский департамент есть нужное в России место. «Каламбур имел такой уcnex, что даже строгий Николай I приказал указать ему Аммосова издали на разводе», – вспоминал один из его современников.
И вот тут надо бы сказать ещё раз о том, что каламбур воспринимается остро лишь тогда, когда вы живёте в той обстановке, к которой относится каламбур. Или, по крайней мере, хорошо знаете обстоятельства, при которых он был произнесён.
Надеюсь на появление словарей богатой каламбуристики советского времени, в которой есть такие «церлы»:
Хоть вы и Валтасар,
Хоть вы и Навуходоноссор,
Но вы балда, сэр,
Вам в ухо дано, сэр.
И давайте снова прочтём каламбур Архангельского о Луначарском:
О нём не повторю чужих острот.
Пускай моя звучит свежо и ново:
Родился предисловием вперёд
И произнёс вступительное слово.
1987 г.