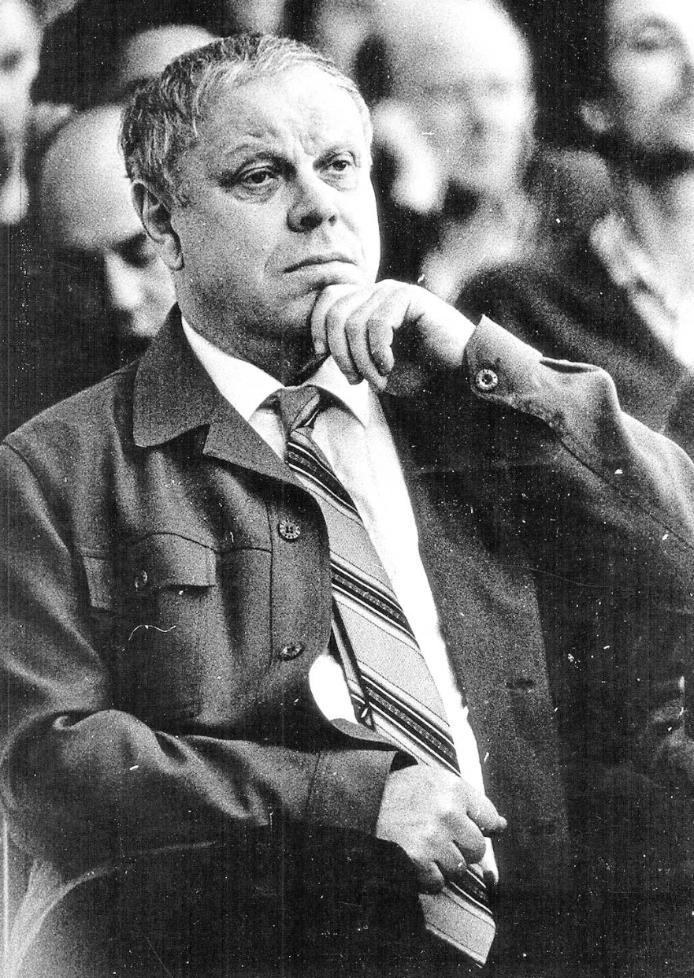
Летом 1956 года Владимир Солоухин отправился на свою малую родину. За несколько недель он излазил большую часть Владимирского края. Какую-то часть пути молодой писатель прошагал пешком, какую-то проскакал на лошади, где-то проехал на машине, а в одном месте проплыл на колёсном пароходике. Во время этого путешествия у него сложилось некое подобие путевого дневника, из которого потом выросла книга «Владимирские просёлки».
Эта вещь очень глянулась Константину Симонову. Он лично летом 1957 года отрецензировал рукопись и распорядился поставить в ближайшие номера редактируемого им журнала «Новый мир». Кстати, этот его отзыв никогда не публиковался. Он сейчас хранится в РГАЛИ, но падчерица Симонова не так давно продлила запрет на пользование фондом своего отчима ещё на несколько лет.
За «Владимирскими просёлками» последовала «Капля росы». Правда, она была напечатана уже в другом журнале – «Знамя». И в ноябре 1960 года главред «Знамени» Вадим Кожевников выдвинул обе вещи на соискание Ленинской премии. К пакету документов на эту премию он приложил и краткую творческую биографию Солоухина. Читаем:
«Родился в 1924 году в селе Алепино Владимирской области в крестьянской семье.
Четырнадцати лет, окончив сельскую школу, ушёл в г. Владимир продолжать образование. С 1939 по 1942 год учился во Владимирском механическом техникуме, а с 1942 по 1946 год находился в рядах Советской армии.
Летом 1946 года был демобилизован, поступил учиться в Литературный институт имени А.М. Горького. Окончил его в 1951 году.
С 1951 по 1957 год работал в журнале «Огонёк» в качестве корреспондента-очеркиста.
С 1957 года член редколлегии «Литературной газеты»; член президиума Московского отделения Союза писателей» .
Можно, конечно, было бы тогда и поподробнее расписать весь жизненный путь Солоухина. Дело того стоило.
Что бы лично я добавил? Первое – Военную службу Солоухин проходил в Москве в Кремлёвском полку. Позже некоторые либералы это ставили ему в вину: мол, почему это Солоухин увернулся от фронта. Да ни от чего Солоухин не уворачивался. Не он решал, где ему тогда было служить. Приказы вышестоящего командования оспариванию не подлежали. И поэтому Солоухина не за что осуждать.
Второе. Как Солоухин учился? Лучше многих. Он в конце 40-х годов всё успевал: и на занятия ходить, и стихи писать, и влюбляться. Летом 48-го года ему приспичило поехать в Нагорный Карабах. «Это мне необходимо, – писал он в дирекцию Литинститута, – для сбора материалов на поэму». А тогда абы кому командировки не выписывали. Надо было предъявить от начальства характеристику. И дирекция Литинститута написала: «В. Солоухин творчески одарённый человек. По отзыву В.А. Луговского и П.Г. Антокольского (а это были не последние в советской литературе стихотворцы. – В.О.) является способным поэтом». А летом 1950 года Солоухин намылился на родную Владимирщину.
Третий момент. Свой диплом молодой поэт защищал весной 1951 года, руководителем у него был В. Коваленков, а оппонировал ему фронтовик Сергей Наровчатов. В протоколе государственной экзаменационной комиссии было записано, что Наровчатов при обсуждении диплома выпускника Литинститута заявил: «В. Солоухин – поэт широкого размаха и большого душевного напряжения». Все проголосовали за то, чтобы молодому поэту поставить отличную оценку. А уже через год Солоухин сам выступал в Литинституте оппонентом на защитах дипломных работ, в частности, ему пришлось судить рассказы одного из самых лучших учеников Константина Паустовского Бориса Балтера.
И я бы выделил ещё четвёртый момент: работу Солоухина членом редколлегии в «Литературной газете». Он начинал в 1957 году при ортодоксе Всеволоде Кочетове, продолжил в 1959 году при либерале Сергее Смирнове и закончил своё членство в конце 1962 года при центристе Валерии Косолапове. За пять лет поэт, естественно, многое увидел и испытал. Но я бы вспомнил одну его статью в «ЛГ» в защиту национальных языков. Как на поэта тогда окрысился партаппарат! Ведь тогдашний лидер страны дал понять, что вся страна в перспективе перейдёт на русский язык, а национальные языки за ненадобностью отомрут. А поэт призвал сохранить и развить эти языки.
В 1966 году Солоухин подготовил книгу новых лирических рассказов. Точнее, даже две: «Зимний день» – это сборник таких зарисовок о природе и о деревне и «Третья охота» – о грибах. Он предложил свои рукописи издательству «Советский писатель», и их обе высоко оценил мастер охотничьих былей Олег Волков, который, к слову, в общей сложности 27 лет провёл в тюрьмах и лагерях. Однако «совписовцев» отчасти опередило другое издательство: они грибной цикл Солоухина успели выпустить отдельной книжицей. Писателю было предложено чем-то заменить цикл «Третья охота». Он принёс записки начинающего коллекционера «Чёрные доски». Издатели попросили эту вещь быстро отрецензировать Петра Проскурина, который только входил в силу. И буквально через пару недель они получили отзыв в одну страничку, которую просто переполняли восторги. «Пора нам, – писал Проскурин под впечатлением «Чёрных досок», – перестать считать себя «иванами, не помнящими родства», это до хорошего никогда не доводило и не доведёт. Солоухин в своей книге просветитель, выполняет благородное и трудное дело».
А дальше читать рукописи Солоухина взялись бдительные редакторы. И они обнаружили много крамолы. Скажем, их очень смутил рассказ «Первое поручение». А что в нём было не так? Солоухин рассказывал об одном дедуле, которому на заре его комсомольской юности дали задание – поучаствовать в раскулачивании одной крестьянской семьи, которая на поверку оказалась середняцкой. Дедуля даже на старости лет продолжал гордиться выполненным поручением. А у писателя оказалось другое мнение: бездумное исполнение чужой воли никогда ни к чему хорошему не приведёт.
«Но вот акценты в рассказе, – подала голос редактор «Советского писателя» З. Одинцова, – надо дополнительно прояснить. Вопрос о раскулачивании в деревне – сложный, трудный и во многом больной. Думается, что сейчас концепция рассказа уязвима».
Солоухин пробовал что-то смягчить. Но получалась фальшь. В итоге он решил отложить эту вещицу в сторону. Но редактору этого показалось мало. Она мурыжила писателя ещё целых полтора года. А ради чего?
Окончательно судьба рукописей Солоухина определилась лишь 21 июня 1968 года. Одинцова дала начальству следующую справку:
«Рассказ «Первое поручение» при редактуре автор согласился снять. В «Чёрных досках» и в рассказах обращалось внимание автора на некоторые перехлёсты в изображении деревенской жизни. В записках коллекционера в процессе работы был несколько приглушён азарт собирателя русских древностей, а прямые выпады в адрес музейных работников, что больше подходит для газетной статьи, были сняты».
Только после этого издатели наконец успокоились и отправили книгу Солоухина «Зимний день» в набор.
Я познакомился с Владимиром Алексеевичем лично уже в конце 80-х годов. Последняя наша встреча состоялась в начале 1997 года. Я пригласил его в редакцию еженедельника «Литературная Россия». Мне очень хотелось, во-первых, свести писателя с тогдашним губернатором Ямала Юрием Неёловым и, во-вторых, попросить его поучаствовать в творческой судьбе большого хантыйского поэта Леонтия Тарагупты. Я долго в присутствии Солоухина и увязавшегося за ним другого старого писателя – Михаила Алексеева убеждал Неёлова, как важно вовремя поддержать подвижников хантыйского и ненецкого народов. Но у Неёлова позиция была такая: численность представителей народов Севера от общего числа жителей Ямала составляла всего шесть процентов, а бюджет округа тратил на поддержание их традиционных отраслей и культуры почти десять процентов, и поэтому он более никому ничего не должен был. И вообще ему достаточно было иметь в округе двух известных писателей: ненку Анну Неркаги и ханта Романа Ругина, а Тарагупта его не интересовал. К присутствовавшим же на беседе Солоухину и Алексееву Неёлов и вовсе не проявил никакого внимания. А ведь были времена, когда Солоухина и Алексеева выслушивал лично глава советского государства Горбачёв. После ухода Неёлова я продолжил разговор о Тарагупте уже с Солоухиным. Я напомнил писателю, что когда-то он сделал большое дело для мансийской литературы: совершил путешествие по Оби и Сосьве и поучаствовал в переводе «Языческой поэмы» Ювана Шесталова. А почему бы теперь писателю не добраться, скажем, до шурышкарских хантов и не перевести исполненную глубокого философского смысла поэму Леонтия Тарагупты «Пословский причал»?! Но Солоухин только усмехнулся. «Ты же видел, – заметил он, – что даже губернатору это не нужно. Лучше давай пропустим по стопочке водочки. Закуска-то у вас в редакции найдётся?» Закуска, конечно, нашлась. Но…
А буквально через пару месяцев, 4 апреля 1997 года, Солоухин умер.

