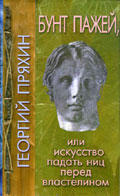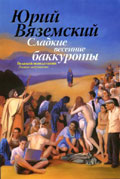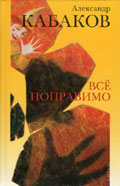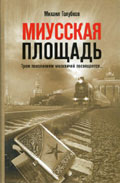Исторические романы в последнее время обрели характерную примету: о чём бы ни повествовал писатель, об античности или о нашей сравнительно недавней, чуть больше полусотни лет прошло, истории, создаётся впечатление, что исторические события – лишь способ иносказательно или прямо отобразить проблемы дня нынешнего. Или отыскать их корни в «преданьях старины глубокой». Такой творческий приём известен давно, однако если писатели, будто сговорившись, предпочитают его обычному историческому роману, можно говорить о тенденции. Похоже, ХХ век с его вынужденной привычкой к иносказанию и поиску аналогий в былых веках ещё не скоро отпустит нас.
МЕМУАРЫ БОЖЕСТВЕННОЙ КОШКИ
В двух исторических плоскостях развивается действие романа Георгия Пряхина «Бунт пажей, или Искусство падать ниц перед властелином». Александр-завоеватель ведёт свою армию на край ойкумены: «Прошло уже более десяти лет, как с носа осторожно, словно к будущей жертве, раздувая ноздри, принюхиваются, швартующегося корабля швырнул он копьё с континента на континент – и в месте прободенья, говорят, выступила из каменистой почвы жирная человеческая кровь». А современный кандидат в депутаты едет на старом, но внушительного обличья «мерсе» на юг России, в «совершенно азиатскую полупустыню», везёт деньги для покупки голосов: «Населённых пунктов почти нет – если прорвусь в депутаты, буду представлять в Госдуме одну только здешнюю флору и фауну, тоже не сказать чтоб обильную». Но тушканчики взяток не берут, стало быть, тысяча долларов предназначена всё же некоему влиятельному местному жителю… Кандидат вспомнит репортёрскую юность, уже забрасывавшую его в эти места, с треском проиграет выборы и поймёт незначительность этого проигрыша только у постели дочери, чудом уцелевшей в автокатастрофе.
Поначалу коробит, что повествование о древности густо пересыпано нынешними словечками, в современных сценах вдруг начинают звучать старинные, а то и вовсе мифологические мотивы. Тем временем Александр Великий покоряет Азию, убивает друга на пиру, осуждает на вечное заточение философа... И на всё это взирает изумрудными глазами она. Та, которую легко принять за царскую наложницу-египтянку, – поскольку повествовательница принадлежит к женскому полу, гибка, цинична и родом из Египта. Но для наложницы загадочная особа слишком уж молчалива (мысленные монологи не в счёт), независима и вездесуща. Допустим, немногословность можно объяснить древностью описываемых времён и патриархальностью нравов, «молчи, женщина» – и всё тут. Но чтобы гаремная красавица в те же самые времена беспрепятственно шастала где вздумается, а заговорщики, сколь бы юны и глупы они ни были, не замечали её на расстоянии вытянутой руки… Странно!
Лишь когда кандидат проиграется, а неумолимый рок положит предел земной жизни Александра, зеленоглазая бросит вскользь: «…проживаю теперь одну за другой чужие жизни» – и лениво мяукнет, милостиво позволяя читателю вспомнить о египетской богине-кошке и более не удивляться её всеведению. В этот момент несоответствие эпохи и манеры речи перестаёт раздражать, а роман обретает цельность.
ДВА ПОРТСИГАРА
Рок витает над Европой. Дьявол ходит по земле. Рок безлик, бесстрастен, а князь тьмы вульгарно-развязен и носит личину американского торговца, да не теперешнего лощёного бизнесмена, а этакого жуликоватого коммивояжёра из рассказов О. Генри. Продаёт он не патентованные мясорубки, а экскаваторы «с десятью ковшами», но это непринципиально – главное, что он по-прежнему скупает души. За восторг в чужих глазах, который так важен женщинам. Или за возможность гарантированно прожить ещё немножечко, что совсем не шутка для всякого: в Стране Советов уже наступил 1937 год...
На таком мистическом фоне разворачивается действие романа «Миусская площадь» литературоведа Михаила Голубкова, рискнувшего стать не только тем, кто анализирует книги, но и тем, кто пишет их сам. Исторический фон составляют хорошо известные события 1930–1950-х годов. А описание повседневной обстановки ни в чём не противоречит как книгам и кинофильмам, соблюдавшим принципы соцреализма, так и позднейшим произведениям, разоблачавшим эпоху культа личности. Счастье созидательного труда, фанатизм научного поиска, военный героизм, простые радости вроде тёплых булок к утреннему чаю – и ночные аресты, публичные процессы, тайные казни. В Советском Союзе и Германии обстановка сходная, острый контраст между взлётом творческих сил и давящим страхом, о котором не говорят, но он разлит повсюду. Дьявол не дремлет, и лишь дети узнают его сразу, а тяжкую поступь рока слышат гипнотизёр Вольф Мессинг да цыганка-гадалка. Прозрение иногда нисходит и на других героев романа, но основную спасительную силу автор явно видит в душевной чистоте, порядочности, врождённом (или благодаря воспитанию) отсутствии подлости. Обладая этими качествами, даже два врага, офицеры советской и германской разведок, смогут обменяться серебряными портсигарами, как обменивались дарами благородные противники сказочных времён, – а рок-то начеку, получится обмен судьбами, – и встретиться за чертой жизни уже друзьями. Даже неприкаянная старость одного из них будет озарена светлыми воспоминаниями об ушедших товарищах и близких, предчувствием встречи, почти религиозным предчувствием, не зря герои ощущают, что им не хватает веры: «Оказалось, что умереть – это вовсе не перестать существовать, но вернуться в своё время, когда ты любишь и любим, когда ты нужен и тебе нужны... Почему же ты так страшился этого? Что может быть лучше? Он боялся одного только: растерять ту радость, которая открылась ему сейчас».
ПЕРЕПРОДАННАЯ ЖИЗНЬ
Несмотря на оптимистичное название, роман Александра Кабакова «Всё поправимо» пропитан безнадёжностью с первой страницы, на которой главный герой предстаёт обитателем дома престарелых. И когда лента повествования начинает крутиться с логического начала, с детства, безнадёжность не уходит. Нет даже контраста беспечального возраста с уже известным грустным финалом. Детство переполнено до отказа боязливыми шепотками взрослых о «деле космополитов» и собственными, героя и его ровесников, подростковыми страстишками. Читая, как мальчики с девочками лапают друг друга на уроках и тискаются по тёмным углам после школы, трудно отогнать мысль: если поколение, рождённое в сороковых, действительно было таким, то что ж теперь пенять на «Дом-2»?.. Однако принять такую точку зрения на времена бабушек-дедушек или родителей, у кого как, – всё равно что судить о теперешних современниках, ровесниках по романам Сергея Минаева.
А Миша Салтыков взрослеет, но жизнь студента-стиляги отличается от жизни школьника лишь появлением джазовых пластинок и джинсов. Описание перепродаваемых героем и его приятелями батников, пиджаков, туфель, пальто и водолазок столь же подробно, как предшествующее изображение симптомов пубертатного периода. Хотя и они никуда не делись, герой женился, но будто не повзрослел. Вот только на дворе уже хрущёвская оттепель заканчивается, и грозные спецслужбы интересуются не родителями Миши, а им самим, перепроданными водолазками и друзьями-вольнодумцами. И это пройдёт, как говорится. Подоспеют кооперативные времена, эпоха больших денег и совместных предприятий. И так всю жизнь, пока не повстречается Михаилу... правильно, сам дьявол – будто выскочившая из «Сказки» Набокова пожилая дама-Мефистофель, которая скажет: «Я буду выпивать этот стаканчик за то, что у вас пройдёт эта болезнь, которая называется «деньги», и вы будете жить здоровый дальше». Изрядно обобранный деловыми партнёрами и дочиста ограбленный хакерами, Михаил жить действительно будет. В том самом доме престарелых, с которого повествование началось. Будет утешаться одними лишь словами: «Хорошая была жизнь» – и видеть во сне родителей, с которыми ему не о чем говорить.
ПАРТИЯ ФАРИСЕЕВ
Книга Юрия Вяземского «Сладкие весенние баккуроты» преподносится как «роман-искушение», но хотя персонажам искушений хватает с лихвой, поначалу неясно, чем автор вознамерился искушать читателя. Действие романа охватывает один день – понедельник, открывающий Страстную неделю. Здесь почти нет мистики и чудес: Христос творит канонические чудеса, но читатель их не видит, только слышит рассказы о том, как был исцелён бесноватый или поднят с одра параличный. А возле злополучной бесплодной смоковницы между апостолами кипит спор, действительно ли засохнет она, будучи проклята Господом, или проклятье было символическим. Лишь изредка необъяснимое напоминает о себе: «Долетев до Иерихонской дороги, крылатая тень повернула в юго-западном направлении и сперва с севера, а затем с запада стала огибать Масличную гору, быстро и бесшумно пронзая клубящуюся темноту между деревьями... И сразу стало видно, что это не филин, а какой-то странный стервятник, летающий по ночам... Немного не долетев до Силоамского источника, она завалилась на правый бок и упала в одну из улиц, во двор одного из домов, окружённого серой глухой стеной. И тут, во дворе, слившись с землёй, стала камнем, у которого, однако, в темноте белым огнём светились почти человеческие глаза».
Ученики Христа, фарисеи, величающие друг друга «товарищами по партии», римские офицеры, Понтий Пилат – все изъясняются на таком современном языке, что роман кажется памфлетом. «Этого Иисуса недели две назад на малом синедрионе объявили в розыск. А он сам припёрся». Или: «Сегодня Елеазар выберет из торговцев самых солидных и самых вменяемых работников, и завтра с утра они будут торговать в Храме, тихо и чинно, никого не обижая и не провоцируя». Нарочитая осовремененность речей контрастирует с подробными описаниями древних интерьеров, одежд и пейзажей. Шутки часто остроумны, но и они подчёркнуто современны. Быть может, именно здесь и таится искушение. Хочется посмеяться над подпольной «партией фарисеев», но болезненное противоречие между важностью темы и лёгкой манерой изложения заставляет подавлять весёлость. Приходится постоянно балансировать на грани между серьёзным, даже благочестивым настроем и новомодным стёбом. А тут ещё и апостолы на протяжении всей книги яростно спорят о том, кто как понял речи Учителя. Вот и ещё одно искушение: необходимостью задуматься, что же сам читатель понимает в канонических текстах Евангелия?
Бунт пажей, или Искусство падать ниц перед властелином. – М.: Воскресенье, 2007. – 208 с.: ил.
Сладкие весенние баккуроты. Великий понедельник: Роман-искушение. – М.: РИПОЛ классик, 2008. – 416 с.
Всё поправимо: хроники частной жизни. – М.: Вагриус, 2006. – 480 с.
Миусская площадь. Трём поколениям москвичей посвящается...: Роман-триптих. – М.: Центрполиграф, 2007. – 399 с.