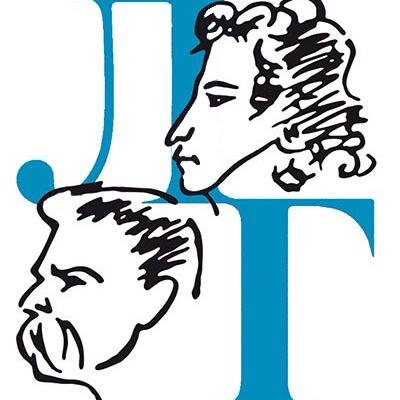Продолжаем разговор о произведениях, вошедших в шорт-лист
Бориса Евсеева все хвалят на один лад. Лев Аннинский: «Энергия у Евсеева – внутри фразы, в её тактильности, вкусности, плотности». Павел Басинский: «Мне по душе рассказы Евсеева. Их прочитать полезно уже для того, чтобы лексикон свой прочистить. Вспомнить, как истинно звучат и пахнут русские слова». Переводчица Ханнелоре Умбрайт: «Особый взгляд на призвание литературы и значимость языка»…
Помилуйте. Хвалить писателя «за язык» – это всё равно что сказать женщине: «У тебя красивые глаза». А как же остальное, позвольте? Лично на меня новая книга Евсеева «Лавка нищих. Русские каприччо» произвела огромное впечатление. Окунула в лучезарную пединститутскую молодость, прямо в пекло второго курса. Я тогда как раз спознался с образованными людьми, они научили меня курить, цокать языком на репродукции Хокусая и находить вкус в нескончаемых, как ожидание под дверью зубного врача, романах Пруста. «Рядом с этой сокровищницей мысли делаешься чище, духовно растёшь», как говаривал Васисуалий Лоханкин. Именно с тех пор у меня сложилось (несколько, надеюсь, превратное) мнение о модернизме как о литературе для юношества.
Лично на меня новая книга Евсеева «Лавка нищих. Русские каприччо» произвела огромное впечатление. Окунула в лучезарную пединститутскую молодость, прямо в пекло второго курса. Я тогда как раз спознался с образованными людьми, они научили меня курить, цокать языком на репродукции Хокусая и находить вкус в нескончаемых, как ожидание под дверью зубного врача, романах Пруста. «Рядом с этой сокровищницей мысли делаешься чище, духовно растёшь», как говаривал Васисуалий Лоханкин. Именно с тех пор у меня сложилось (несколько, надеюсь, превратное) мнение о модернизме как о литературе для юношества.
Для тех, кто если и не «растёт», то ощущает, что есть куда.
Юношей питает не опыт, но пытливость, а смысл модернистских произведений так глубоко зарыт, что в его отсутствие невозможно поверить. Докопавшись до понимания, испытываешь законную гордость человека, совершившего большую работу, невольно подтягиваешь мнение о прочитанном до масштабов своего подвига. «Есть речи – значенье Темно иль ничтожно, Но им без волненья Внимать невозможно»…
Приступая к Евсееву, надо помнить, что письмо у него не просто «красивое», но ещё и «феноменологическое» (то есть обретающее смысл в процессе своего становления: не пишу, что думаю, а то и думаю, что пишу). Что «содержанием литературного высказывания является его форма». Что в литературе «красиво» значит «умно». Мне почему-то кажется, что эти формулы обслуживают пубертатный период – когда говорить уже можется, а думать ещё нет. А доживают до зрелых лет по той причине, что писать у большинства писателей выходит легче, чем жить. Соединять слова – это всё равно что передвигать по полу оловянных солдатиков. Солдатики слушаются, жёны и дети – нет. Поэтому у нас «нет романа», хотя немерено романистов.
У Бориса Евсеева репутация продолжателя классической русской литературной традиции. Подозреваю, что его туда назначил критик Павел Басинский. Дескать, мы, реалисты, не только про валенки – мы и на мандолине умеем. (Была у Павла Валерьевича такая мечта: собрать Павлова, Варламова, Евсеева, одеть в тельняшки и сфотографировать: «Русский реализм: полёт нормальный».)
Вроде верно: не о разочарованных офисных работниках Евсеев пишет – о жителях предместий, сирых да убогих, как же не реалист? Но тут мы и наступаем на только что отброшенные за ненадобностью грабли: содержанием литературного высказывания в значительной степени является его форма. Евсеевская манера речи – нарциссическая, старательная – не подпускает своего обладателя к пахнущим казармой и гуталином вечным вопросам: как жить, зачем жить, где взять сто рублей до зарплаты. Удерживает в мамкином плену салонной псевдомногозначительности. Взять заглавный рассказ сборника – «Лавка нищих».
Дома у героя поселяется нищий и губит его. Тема? Вполне. Где-то рядом с нашей протекает другая жизнь; между ними нет надёжных границ: засмотрелся на трещину в асфальте по пути на работу, сделал шаг в сторону и пропал. Милосердие и самосохранение: кто кого? Последние станут первыми или наоборот? Вопросы, вопросы, десять тысяч одних вопросов. Но. Чтобы дать читателю возможность о них задуматься (почувствовать, прожить втуне, отложить на потом), надо совершить над ним «акт реализма»: убрать дистанцию между «я читаю» и «я живу». Грубо ткнуть в обстоятельства: смотри, так бывает, завтра это может произойти с тобой, это УЖЕ твоя проблема. Скажем, нищий тот – твой двоюродный племянник из Кустаная, или ты его машиной случайно сбил, или лучше так: он узбек-гастарбайтер (в Москве их называют «таджиками»), а ты его случайно машиной и теперь позорно боишься мести всемогущей диаспоры. Вот как судьба стучится в дверь, вот как философствует ножом и топором! А что у Евсеева?
Фантазии гимназистки. Какая-то волшебная «лавка», в которой продают людей, какой-то всемирный заговор, не объяснимая никакой наукой «бывшая», пришедшая на помощь в самый подходящий момент, но решительно не знающая при этом, какое делать лицо и что говорить, хиленькая истерика, маскирующая полное отсутствие психологического правдоподобия, потешная граната в конце (почём брал, студент?) и одноклеточная риторика про «страну нищих» на месте какого-никакого итога или морали. Откладываю рассказ в сторону и берусь за журнал «Караван истории», там сегодня «Новые приключения Джигурды».
Это что касалось формы содержания – теперь про содержание формы. Евсеевская манера красиво выражаться ЗАМЕТНА, и это плохо. Говорят, на монтаже фильма «Зеркало» техническая работница, глядя на экран, воскликнула: «Ах, как красиво!..» Тарковский встрепенулся: «Где, где? Вырезать».
Евсеев не стыдится демонстрировать отношение к литературе как к техническому заданию. Местами оно и впрямь очень хорошо выполнено, но местами (как в «подзаголовочном» рассказе «Русское каприччо») провалено с треском: назойливый повторяющийся ритм, будто в детской дразнилке, чередования выдохов и пауз утомительно предсказуемы – лезвие ножа не просунешь, неоткуда живому ростку пробиться, «внутренняя энергия фразы» выдана на-гора с таким усилием, будто не основоположник школы феноменологического письма писал, а гимн... (уже было) абитуриентка Литинститута. (Мало ли какой экзаменатор прочтёт; поэтому националистам сервировано «русских людей обижают», либералам – «про зверства режима», лирикам – «про детство», физикам – «про время». Кучка аккуратных банальностей. Абитуриентке «пять», а для продолжателя традиций до обидного маловато.)
Кстати, и «абитуриентку» при желании можно провалить. В рассказике «Сухолюб» читаем: «Пыля задумался. Облокотился двумя руками о стол». Сразу возникает вопрос: сколько всего рук было у подзащитного? Если облокотился, почему не локтями? Опёрся бы тогда уж…
Лев Толстой тоже был мастак вспугнуть петуха («Пять человек богатых и молодых людей…»), но он-то музыке слов предпочитал либретто, а тут «каприччо». Виртуозная инструментальная пьеса свободной формы. Ай-ай.
Лавка нищих. Русские каприччо. – М.: Время, 2009. – 336 с.


 Лев ПИРОГОВ
Лев ПИРОГОВ