Вот книга книг для любого студента-филолога. Внимательно изучив её, он изнутри приобщится к становлению литературоведческой мысли в России двух последних веков.
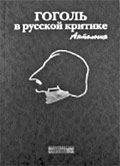 Гоголь в русской критике: Антология / Составитель С. Бочаров. – М.: Фортуна ЭЛ, 2008. – 720 с.
Гоголь в русской критике: Антология / Составитель С. Бочаров. – М.: Фортуна ЭЛ, 2008. – 720 с.
«Многослойность», о которой применительно к произведению искусства, в том числе и словесного, говорил знаменитый эстетик ХХ века Роман Ингарден, распространяется на творчество каждого значительного писателя в целом. Понимать его – значит последовательно снимать слой за слоем возможных интерпретаций. Только так можно приблизиться к самому ядру смысловых сплетений, к «внутренней форме» (Густав Шпет) созданных писателем творений.
Однако таково становление и развитие не только отдельного исследователя, но и всего национального литературоведения, которое ведь тоже можно представить себе как некий интеллектуальный организм. Составленная С. Бочаровым достаточно пространная, хотя и вынужденно неполная антология это демонстрирует наглядно.
«Гоголя далеко не легко понять, не легко постичь», – писал когда-то Иван Ильин (в книге «Гении России», где кроме Гоголя к гениям причислены ещё только Пушкин, Достоевский и Толстой). Истинно так! Читая антологию, мы видим, как долго и мучительно, временами на ощупь подбиралась к своему гению русская мысль.
Составитель выделяет в гоголеведении три периода, каждому из которых посвящён особый раздел. Примерно пятую часть объёма занимает при- и пожизненная критика – от Пушкина и Белинского до братьев Аксаковых и Тургенева. Здесь царят всеохватная (но часто и хаотичная) интуиция, восторженные эмоции или публицистически изложенные претензии. Суммирующий вывод: мастер загадочно глубокого юмора, бичующий нравы сатирик, создатель «натуральной школы».
Второй период (и раздел) – философская и по преимуществу символистская критика рубежа веков. По количеству имён он, вопреки ожиданиям, выглядит пожиже, чем предыдущий. Собственно, доминирует здесь главный отрицатель Гоголя Розанов, представленный девятью статьями. Долгое время в «губителе жизни» Гоголе Розанов видит лишь «дикий хохот», чертовщину и ничего больше. Только в последних статьях происходит заметный перелом – и Розанов начинает замечать и ценить и гоголевский плач, и его захлёбывающееся лирическим пафосом любование Россией. Кроме того, здесь приводятся суждения Мережковского, Анненского, Блока, Брюсова, Белого. Но и у них «демонизм» проходит, как раньше говорили, красной строкой. Любопытно, что никого из собственно (религиозных по преимуществу) философов этого времени (эпохи «философско-религиозного возрождения») в сборнике нет. А ведь все они – от Бердяева и Шестова до Лосского и Степуна – куда как охочи были писать, например, о Достоевском. Сбылось, таким образом, предупреждение Говорухи-Отрока: о Достоевском-де размышлять прямолинейным философским мозгам легче. Можно прибегнуть к его полифонической «драме идей», можно воспользоваться репликами-тезисами кого-либо из героев, на свой лад толкуя, развивая или оспаривая их. Об этом, кстати, писал и честный Ницше, когда его пытались сравнивать с Достоевским: куда, мол, мне, я только один из его героев.
Впрочем, этот пробел, может быть, стоило восполнить за счёт писаний философов-эмигрантов, успевших поспособствовать интеллектуальной славе Серебряного века, прежде чем судьба забросила их на чужбину. Из них в книгу взят только протоиерей В. Зеньковский, а, например, тот же Иван Ильин (или его однофамилец Владимир Ильин), как и К. Мочульский, как и, особенно, С. Франк, остались за бортом. Правда, основополагающая (для православного взгляда на Гоголя) статья С. Франка «Религиозное сознание Гоголя» была (как и книга И. Ильина) написана по-немецки, и литературные её достоинства ниже, чем обычно у этого автора. И всё же, думается, во вступительной статье, как всегда, блестяще написанной составителем, эти работы стоило бы отметить. И вообще: можно понять щепетильность филолога, чурающегося нынешнего несколько экзальтированного (типично неофитского) педалирования «православного взгляда» на вещи, однако в этом случае стоило бы, так сказать, учесть мнение и самого Гоголя, считавшего такой взгляд самым важным в себе. (Из новейших исследователей этого толка проигнорированы и Гуминский, и Воропаев.)
Однако у С. Бочарова свой конёк и своя область, где он, пожалуй, лидер в нашем отечестве, – герменевтическое (понимающее) прочтение, которое он (возможно, справедливо) называет наукой. Это прежде всего та «философия художественности», которая, вдохновляясь трудами Бахтина, Тынянова, Шкловского, Эйхенбаума, Пумпянского – и так далее, вплоть до недавних Лотмана, Турбина, Паламарчука, Синявского, Вайскопфа, – с разным успехом в разные годы, но в целом упорно пробивала себе дорогу после революции. Работам именно этих авторов отдана тут немалая площадь. В этой заключительной части сборника участвуют своими, скорее всё же «импрессионистическими», статьями и писатели – Ремизов, Набоков, Битов. Приводится здесь отрывок и из поздней книги Андрея Белого «Мастерство Гоголя» – вершинного, пожалуй, достижения отечественного гоголеведения.
В то же время место В. Виноградову не нашлось, о чём составителю приходится сожалеть в предисловии. За исключением квалифицированной статьи Ю. Манна «Кафка и Гоголь» нет и работ, выводящих Гоголя в контекст мировой литературы. (Хотя бы фрагменту по-своему классической работы Елистратовой о Стерне и Гоголе всё-таки надо было бы, пожалуй, приискать место.)
Всё это вопиет об одном: сколько-нибудь полный свод лучшего из написанного о Гоголе будет вынужденно ждать лучших времён. А пока возблагодарим инициатора и составителя антологии за эти на редкость поучительные (а местами и усладительные!) «выбранные места».
