«За последние 50 лет мы нанесли природе больше вреда, чем за весь период жизни человечества», – считает профессор Печуркин
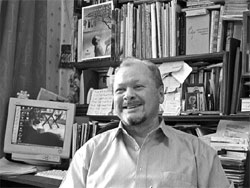 Далеко от Москвы, на высоком берегу Енисея, в таёжном окружении стоит Академгородок. А в том городке есть Институт биофизики Сибирского отделения Российской академии наук. А в том институте есть одна интересная лаборатория, цель исследований которой ни больше ни меньше как экологическое прогнозирование. А заведует той лабораторией доктор биологических наук, кандидат физико-математических наук Николай Печуркин.
Далеко от Москвы, на высоком берегу Енисея, в таёжном окружении стоит Академгородок. А в том городке есть Институт биофизики Сибирского отделения Российской академии наук. А в том институте есть одна интересная лаборатория, цель исследований которой ни больше ни меньше как экологическое прогнозирование. А заведует той лабораторией доктор биологических наук, кандидат физико-математических наук Николай Печуркин.
Статус настоящего учёного обязывает не замыкаться на своей лаборатории. И профессор Печуркин читает курс глобальной экологии в Красноярском университете. Именно в этом университете благодаря активности учёного появились первые специалисты в области экологической биофизики. А ещё он пишет книги и учебники. Руководит Сибирским отделением Международной экологической организации «Зелёный Крест». И время от времени пересекает параллели и меридианы в разных направлениях. Кстати, наше с ним интервью было записано после его возвращения из Хьюстона, с Международного космического конгресса, где он руководил секцией «Малые искусственные экосистемы для Земли и Космоса».
– Николай Савельевич, как вы думаете, человечество состоялось?
– Вот это вопрос! Что значит состоялось?
– Мы иногда говорим – вот этот человек не состоялся. Применим такую форму вопроса к человечеству.
– Ну давайте тогда поразмыслим. Гомо сапиенс – он почти состоялся. Если брать ту прекрасную часть наших находок, эту технологическую цивилизацию и это умение взять у природы очень многое! Ну чудо, например, электромагнитное поле, которое нам не дано в ощущениях, и по Ленину его вообще нет – «не материя», но мы его приручили. Очень многое сделали и в технологической части науки в лучшем смысле этого слова. Мы молодцы, это просто здорово, но есть другие стороны. Состоялось оно потому, что нас 6 миллиардов и мы захватили планету в буквальном смысле, как хищники верхнего уровня – в этом смысле состоялись. В чём не состоялись, не досостоялись? Именно в наших отношениях с природой! Мы действуем уже глобально, поехали главные показатели биосферы.
– Что значит «поехали»?
– Значит, сдвинулись с постоянных значений, которые были нам известны сотни лет. Ну, скажем, тревожное увеличение углекислого газа в атмосфере! Все знают эти растущие вверх «кривые» со скоростями, которых не было в природе никогда. Это человек сделал! То же самое с изменениями озонового слоя, с загрязнениями внутренних вод, локальных атмосфер… И в целом получается, что биосфера не держит те показатели, которые должны быть постоянными. Из-за нас! Она уже сдаёт свои позиции, но пока медленно. И мы не знаем, как ещё она может отступить и где будет срыв. Срыв при такой тенденции обязательно будет. И вот нам, человечеству, надо суметь не дойти до срыва. Это первое. А второе – сделать хорошие прогнозы нашего поведения в биосфере, чтобы дальше её не нарушить и наши дети могли бы тогда хорошо жить. Вот главная задача! И тогда это будет уже состоявшееся человечество в глобальном масштабе!
– Ну и что же, профессор, вы считаете, что экологический солидаризм сможет нас объединить?
– Ну конечно! Он на то и солидаризм, что означает прежде всего нахождение компромиссов, взаимовыгодных решений в любой ситуации. Ни в коем случае не доводить до войны. Вот если ты солидарист, это значит, что ты не воюешь никогда! Вот это принципиально важно. У тебя хватает мозгов в том, в другом увидеть такого же человека, как ты, а не врага другого цвета кожи, с другим языком, иной веры. Такого же человека, как ты, и договориться с ним, а он тоже человек. Ведь если учесть, что именно за последние 50 лет мы нанесли природе больше вреда, чем за весь период жизни человечества, то, помилуйте, – до войн ли?!
– И сколько же лет идея экологического солидаризма не даёт спать профессору Печуркину?
– Мне кажется, всё время сколько живу! (Он легко смеётся, по-мальчишески запрокидывая голову.) Как только начал понимать этот мир, я уже знал, что надо искать пути солидарных решений любых вопросов. Так что меня ещё в детстве называли профессором, только – «кислых щей». Это было в деревне и других профессоров там не было!
Он говорит – «это было в деревне». Но что это была за деревня?! Дальние предки профессора – кержацкие поколения староверов, когда-то изгнанные из архангельских мест на Урал, а потом за Урал, – поселились на Алтае. А когда вольнолюбивые, истинно трудовые люди не пожелали вступать в колхоз, тогда их назвали «спецпереселенцами» и, отобрав нажитые крепкие хозяйства, отправили в Нарымский край, на север Томской области, на Васюганские и Парабельские болота.
Там и родился Николай, сын Савелия Печуркина. Чудом выжил, потому что половина переселенцев в первые же месяцы погибла. Среди них была и его мать. Спасала мальчишку сестрёнка – сама ребёнок. Уцелевших мужчин, тех, кто помоложе, забирали в «трудармию». Те, кто постарше, корчевали-пахали землю. Женщины и дети рыли землянки, варили кору деревьев, да тем и спасались.
Через год староверы, для которых труд на земле был почти священным, уже подняли пашню – без лошадей. А затем – и первые дома. Так родилась деревня Старица. А колхоз был образован и здесь – насильно... Вот что это за деревня! (Читай, деревни.) Не только живая летопись нашей истории! А ещё – «огонь, вода и медные трубы» российского генофонда.
До сих пор хранит профессор документ о том, что его отец Савелий Андреевич Печуркин «освобождается из-под комендантского надзора, а с ним его дети». Только не было уже среди детей ни старшего Андрея, погибшего в 20 лет солдатом сибирской дивизии. Ни семнадцатилетнего Авдея, раньше срока взятого на фронт. А девятилетний Николай не сразу понял, что он впервые официально обрёл свободу, а с ней и право на высшее образование наравне со всеми. Иначе он мог бы повторить судьбу Авдея, который перед войной сбежал из-под надзора, так он хотел учиться. За одарённость Авдея поначалу приняли без документов, но когда выяснилось, «из каких» он, его исключили из техникума. Ну а тут война – и одним одарённым солдатом стало больше…
После окончания Томского университета, куда, между прочим, привёз Николая школьный учитель физики и без помощи которого паспорт получить было бы непросто (в колхозах не было паспортов), его оставили в Сибирском физико-техническом институте сразу старшим научным сотрудником.
Это был разгар холодной войны, когда радиофизика была сугубо военной наукой. Даже стипендии были у них вдвое больше, чем у студентов других технических вузов. И хотя с трибун произносилось немало высоких слов о том, что ничего нет главнее советского человека, всё же главнейшей заботой государства были военно-промышленные технологии. И наш молодой военный радиофизик мог бы жить очень даже безбедно. Тем более что написанная в студенческие годы кандидатская была уже утверждена.
Но!.. Никак не проходило потрясение от одной прочитанной ещё на четвёртом курсе книги – Клемент Аркадьевич Тимирязев «Солнце, жизнь и хлорофилл». Она тревожила, задавала вопросы и не отпускала. Теперь, спустя многие годы, он по-прежнему считает её великой книгой, которая рассказывает о том, что растение – это посредник между двумя стихиями – небом и землёй, оно захватывает солнечные лучи, преобразует их в живую массу, и именно оно кормит планету. Это не метафора, это абсолютно точное определение.
Вот когда Николай Печуркин стал искать, где бы поработать, научно выражаясь, с живыми объектами. Он поехал в Пущино – в новый Биологический центр Академии наук. Но тот был ещё в стадии организации. Оставалось ждать. И в это время из Красноярска приходит известие, что в одном из институтов Академии наук открывается отдел биофизики. Теперь это его родной институт…
И всё! Он оставил науку для войны и посвятил себя науке для жизни! Многое ему пришлось осваивать с самого начала. Но доктор биологических наук Печуркин никогда ни о чём не пожалел и до сих пор уверен, что самое большое чудо на Земле происходит в зелёном листе.
Как то в моей домашней библиотеке появилась книжка «Энергия и жизнь» из научно-популярной серии Академии наук, автор которой – мой сегодняшний герой.
– Николай Савельевич, тяжелейшая это задача рассказать популярным языком о том, что наша цивилизация – главная опасность биосфере и нам самим, сотворившим эту цивилизацию. Но поскольку вы обращаетесь к читателю с советами, то, видимо, полагаете, что книжка должна играть роль настольной? Какие надежды у вас с ней связаны, для чего она?
– Если в двух словах – для пользы дела. Я думаю, что нам надо понять себя и мир, окружающий нас, это главная задача всех времён. И сосуществовать друг с другом и природой. Посмотрите, что мы сделали. Ведь мы живём в прекрасных городах. Я имею в виду уровень комфорта. Каждый средний горожанин, который живёт в тёплой квартире, это тот же мелкопоместный дворянин вот того XIX века. У него есть слуги, которые ему обеспечивают тепло, свет, воду, канализацию. Именно поэтому люди стремятся жить в городе.
Конечно, мы недотягиваем до американцев по уровню сверхкомфорта, но это уже и не требуется. Как выясняется, такую нагрузку природа не выдержит. Вот так, как европейцы живут, – этого достаточно, такую нагрузку планета выдержит. А европейцы живут очень даже неплохо. Так что у нас, россиян, есть ещё перспективы... А представьте-ка, шесть миллиардов в условиях сверхкомфорта! И что будет?! Вот тогда-то из-за этих технологических нагрузок по разным направлениям полезут ядовитые газы и прочие загрязнения и качество жизни ухудшится. И тогда человек перестанет размножаться, и не надо никаких войн, никакой отравы, взрывов – есть такое в нашей системе, перестаёт работать инстинкт размножения.
Мы подходим к экологическому кризису, из-за неуправляемого развития технологий. Это прежде всего энергетика, вся тяжёлая промышленность, вся военная промышленность. Российские технологии самые грязные, а прибыль минимальная. Я не говорю о беспорядке в сельском хозяйстве – горы старых удобрений свалены где попало, и всё это течёт в реки, которые наш народ и поят, и кормят. А возьмите сельское хозяйство в Сибири. Пшеница хороших сортов не вызревает, и наши 15 центнеров с гектара – это фактически лишь пять центнеров полноценного корма. А если, как в старину, сеять лён, то затраты соотнесутся с прибылью. Ну а корм обеспечил бы обычный разнотравный луг – 50 центнеров с гектара, и это только в один укос!
Зачем сеять то, что невыгодно? Пшеницу дешевле покупать! Человеческая экономика должна дружить с экономикой природы. Жить в согласии с природой – это единственно верный путь. Если угодно, ноосферный путь. Надо срочно переходить на культурное хозяйствование, которое включает в себя и ответственность перед окружающей средой, перед живой.
– Да, просвещён, как предупреждён, – значит вооружён. Но «вооружены» ли наши главные управляющие страной?!
– Увы! За нашими экономическими бедами мы отодвинули экологические проблемы так незаметно для всех, а они первостепенные! Мы – «недоросли» при всей нашей одарённости!.. Если говорить о возрасте нашей нации, то он где-то на уровне лет семи, как ребёнок, который не за всё может отвечать сам. Нет никакой ответственности ни в целом, ни за свои поступки. Всё время хочется на кого-то свалить, вот в 90-х годах валили на коммунистов, сейчас валим на демократов. Да мы же сами составляем нацию, мало ли кто нами правит, отвечать-то нам за себя!
Конечно, вся ориентация была не на интерес к людям и к природе, а на какие-то отдельно взятые государственные планы, и эта командная система очень испортила нас. Но у нас нет другого выхода кроме как выздоравливать… Как мы хозяйствуем, это же безобразие. Даже на наших окраинах! Вы бы видели, во что превратили нефтяники и газовики наш Ямал! Настоящая помойка! У нас нет настоящей культуры природопользования! Ведь деградация экосистем ухудшает качество нашей жизни. Вы думаете, Ямал далеко? Нет, он близко, варварское отношение к природе рядом с нами!
– Но чем может помочь нам экологическая биофизика?
– Проблема выживания, в частности, требует знаний о жизни! Ведь мы такие опасные для биосферы и для себя самих, как говорится, «не по злобе», а – по неведению. И я как могу «бросаю круг» – пишу книжки, читаю лекции студентам, и не только им, участвую с докладами на разных конференциях, в том числе по экологическому образованию – это одно из направлений работы «Зелёного Креста». Экологические знания должны лежать в основе нового мировоззрения человечества. А без этого сама возможность устойчивого существования нашей популяции под большим вопросом. Ну а что касается экологической биофизики, то, говоря популярно, она исследует применение мощного арсенала физики в области жизненных процессов, влияние многих физических факторов на живые системы, если коротко. Что касается меня, то мои научные интересы – от популяционной микробиологии до теории экосистем и принципов развития сложных систем, включая биосферу. Тщусь дать количественную трактовку принципам Вернадского, разработать основы экологического солидаризма и экологизировать глобальный интеллект, который неудержимо развивается во все стороны и быстрее, чем по экспоненте, то есть быстрее взрыва...
Он всегда в пути – к истине, к просветительству. Человек, для которого Родина – это и есть Земля. Он, конечно, чаще употребляет «мы», нежели «они». Причастность – качество интеллигента. Хорошо знакомый код – «если не я, то кто!» И, познавший мощь науки, он торопится нам объяснить, что давно уже колокол звонит по человечеству…
