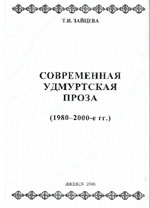 Ничего в этом мире не проходит даром, любой социальный, политический или экономический процесс приводит к определённым последствиям в судьбе и культуре народа, и далеко не всегда эти последствия бывают однозначно положительными. Вот и длящееся уже два десятилетия нарушение переводческих связей между братскими литературами привело к тому, что жизнь большинства национальных литератур оказалась сегодня вне поля видимости как широкого российского читателя, так и российской критики. А между тем миновавшие двадцать лет отнюдь не прошли впустую для самих этих литератур, и к настоящему моменту многие из них проделали огромную работу, осмысливающую произошедшие с нами на рубеже второго и третьего тысячелетий перемены и отыскивая своё новое лицо и новое место в современном литературном процессе.
Ничего в этом мире не проходит даром, любой социальный, политический или экономический процесс приводит к определённым последствиям в судьбе и культуре народа, и далеко не всегда эти последствия бывают однозначно положительными. Вот и длящееся уже два десятилетия нарушение переводческих связей между братскими литературами привело к тому, что жизнь большинства национальных литератур оказалась сегодня вне поля видимости как широкого российского читателя, так и российской критики. А между тем миновавшие двадцать лет отнюдь не прошли впустую для самих этих литератур, и к настоящему моменту многие из них проделали огромную работу, осмысливающую произошедшие с нами на рубеже второго и третьего тысячелетий перемены и отыскивая своё новое лицо и новое место в современном литературном процессе.
Именно об этом свидетельствует книга ижевского литературоведа Татьяны Зайцевой «Современная удмуртская проза (1980–2000 гг.)», выпущенная в 2006 году Удмуртским государственным университетом тиражом 150 экземпляров. Эта 180-страничная книжечка таит в себе немало интересных открытий для тех литературоведов и критиков, которые проживают в стороне от Республики Удмуртия и потому не имеют возможности следить за тем, какие художественные течения развивались в ней в последние годы. А там в это время шли (и продолжают идти и сегодня) очень интересные и значительные процессы, во многом сходные с теми напряжёнными идейно-стилевыми и жанровыми исканиями, которые велись как в русской, так и национальных литературах в 1920–1930-е годы.
«Сегодня отчётливо стало видно, – пишет автор, – что в литературе с середины 90-х годов произошла смена парадигм, на литературную арену вышло новое поколение писателей, которое принесло новое миропонимание и новое мироощущение, иное видение значения литературы. Это Никвлад Самсонов,
Н. Никифоров, П. Куликов, О. Четкарёв, В. Сергеев (Вячеслав Ар-Серги), П. Захаров, С. Матвеев, В. Котков, У. Бадретдинов, Г. Грязев,
Л. Нянькина, Л. Малых,
Р. Игнатьева и др. Девяностые годы стали временем развития различных литературных потоков и ветвей, на глазах происходила (и продолжает происходить) дифференциация национальной прозы. Писатели взглянули на жизнь без розовых очков, поместили своих героев в гущу жизни, в такую, какая она есть. Но делается это под определённым писательским углом зрения: демократизация героя, многосложность характеров и коллизий, неожиданно смелое использование вымысла, критический пафос. Жизненные несуразности или абсурдные стороны действительности активно обнажаются с помощью юмора, иронии, фарса; драматизм обыденной ситуации наполняется комическим. Использование нашими писателями вымысла сильно отличается от фантастических жанров русской и европейских литератур. Опыт мировых литератур, безусловно, присутствует, но главным источником являются традиции родного фольклора, миф…»
Среди расцветших за последние годы в национальной удмуртской прозе литературных течений, говорит автор, особое внимание обратили на себя местные разновидности «постмодернизма», «нового реализма» и «этнофутуризма», подтолкнувшие удмуртских литературоведов к опыту новых методологий анализа – структурализму, семиотике, деконструктивизму и т.п.
Как своеобразную реакцию на стандартизацию культуры Татьяна Зайцева отмечает усиливающееся внимание писателей к фольклору, проявляющееся в их стремлении обнажить в сознании и психике своих героев всё то первичное и первородное, глубинное и потаённое, что современная наука называет мифологией. Кроме того, в сегодняшней удмуртской литературе начал широко применяться приём отказа писателя от героя, когда герой и автор перестают различаться и автор принимает на себя функции персонажа, вовлекаясь в сюжет и текст создаваемого произведения и превращаясь в двойника героя. «История автора, двойника реального героя, сделавшаяся предметом специального изображения и одной из линий сюжета новых произведений, обусловила нарастание функциональной роли сверхтекстовых элементов – жанрового подзаголовка, эпиграфов, примечаний, сносок, приложений, посвящений, комментариев и т.д.», – говорит Татьяна Зайцева, открывая читателю взгляд на совершенно новую, незнакомую ему удмуртскую прозу. И поскольку эта проза российскому читателю из-за отсутствия русских переводов практически недоступна, то единственное, чего хотелось бы посоветовать Татьяне Зайцевой, – это побольше иллюстрировать свои размышления пересказами сюжетов анализируемых произведений и их цитированием, чтобы мы хотя бы так могли познакомиться с удивительным художественным миром удмуртских авторов.
