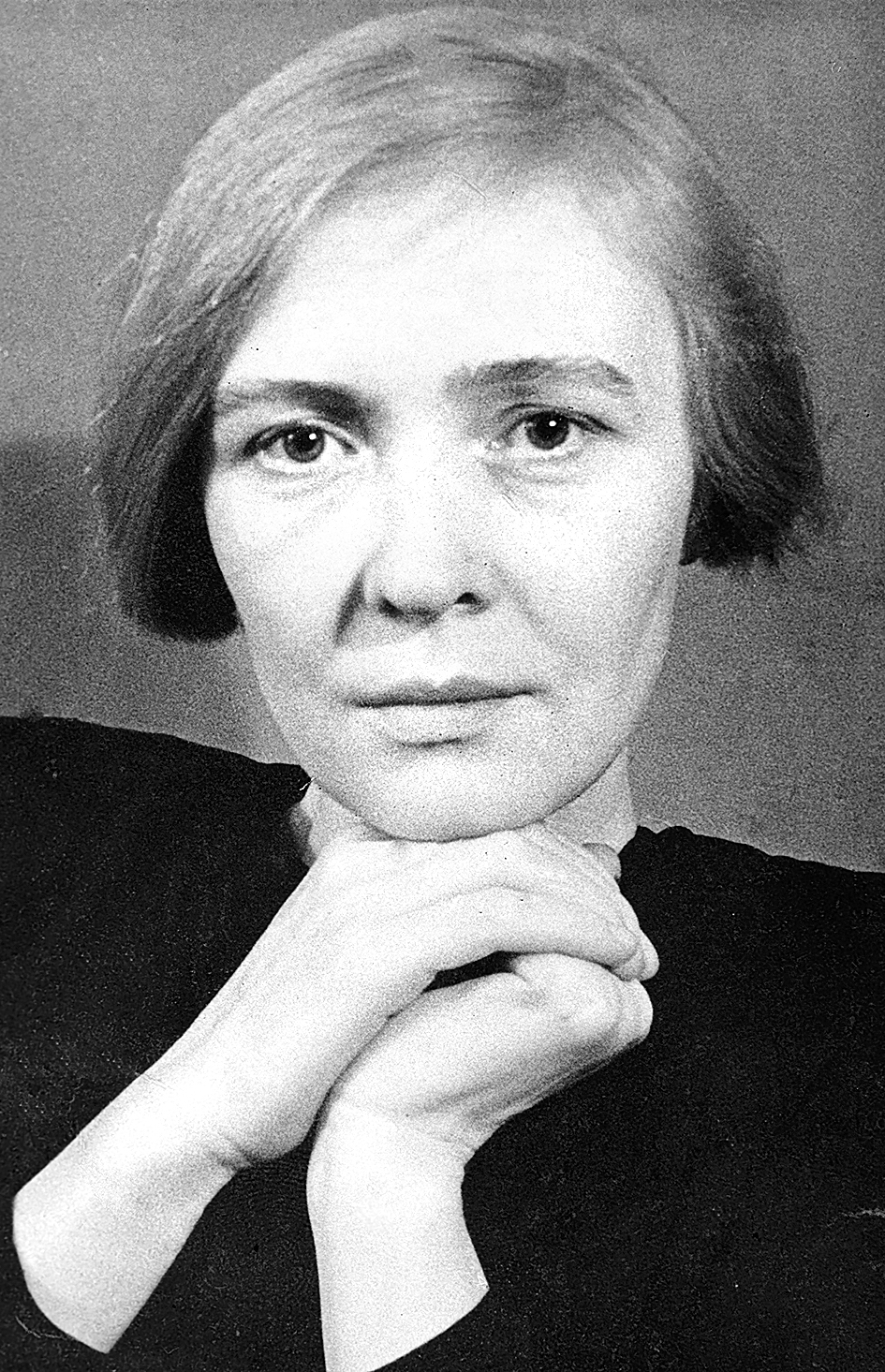
Александр Мелихов
«Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы» (М., 2017). В этой книге её автор Наталья Громова повествует, в частности, о триумфальном вхождении одарённой «фабричной девчонки» в советскую литературу: её приветствуют Чуковский и Горький. И понемногу она возносится до того, что признаёт Маршака недостойным руководить детской литературой.
Но уже 21 сентября 1933 года она приходит к обидному выводу: «В литературе ко мне относятся, конечно, несерьёзно. За исключением разве «Молодой гвардии». Я стою на глубоком отшибе от плеяды признанных – Корнилов, Прокофьев, Гитович и др. Имя моё упоминается, только когда говорят о детской литературе. Обо мне ходят анекдоты как о приспособленке. Высмеивают мой «энтузиазм», «увлечение заводом». Сегодня Б. Корнилов сказал, «что я слыхал, будто бы у тебя было где-то напечатано стихотворение:
Лаской вымолила у Вани я,
Чтоб вступил он
в соревнование?
Пускай. Торопиться нельзя, нельзя выказывать желание «признания» – ни словом, ни делом. Я иду честным и очень трудным путём. Я буду заниматься историей завода, буду отдавать ей свою лучшую энергию, то мизерное пока ещё мастерство, которое у меня есть, буду работать над «проблемными» рассказами, над «женскими стихами», над детскими книгами. Меня вывезет жизнь, моё нелитературное участие в ней, моя принадлежность к партии. Я не сомневаюсь в том, что я талантлива. У меня нет культуры, нет жизненной закалки, нет глубины ума. Всё это будет. Я сделаю книги, нужные и любимые теми, кто будет их читать…»
В литературу её выведет «принадлежность к партии»…
Учение Маркса было всесильно, потому что льстило невеждам, ставя пресловутую классовую принадлежность выше таланта и просвещённости. И оно же развращало их, внушая иллюзию, будто им уже некуда тянуться: принадлежность к партии становилась тормозом. Боюсь, Ольга Берггольц не осталась бы в истории литературы, если бы не война. И только война могла породить эту потрясающую книгу: «Ольга. Запретный дневник» (СПб, 2010; состав, вступительная статья, комментарии, подбор иллюстраций Н. Соколовская, А. Рубашкин).
Вот цитата из вступительной статьи.
«Знаменательны и свидетельства Берггольц о поездке в Москву, куда её, предельно истощённую, друзья отправили в марте 1942 года. Она провела в столице меньше двух месяцев, постоянно порываясь вернуться: дышать там – после «высокогорного, разрежённого, очень чистого воздуха» ленинградской «библейски грозной» зимы – было нечем. «Здесь не говорят правды о Ленинграде…»; «…Ни у кого не было даже приближенного представления о том, что переживает город… Не знали, что мы голодаем, что люди умирают от голода…»; «…Заговор молчания вокруг Ленинграда»; «…Здесь я ничего не делаю и не хочу делать – ложь удушающая всё же!» «Смерть бушует в городе… Трупы лежат штабелями… В то же время Жданов присылает сюда телеграмму с требованием – прекратить посылку индивидуальных подарков организациям в Ленинград. Это, мол, «вызывает нехорошие политические последствия». «По официальным данным, умерло около двух миллионов…» «А для слова – правдивого слова о Ленинграде – ещё, видимо, не пришло время… Придёт ли оно вообще?..» И – через все дневниковые записи и письма этого периода рефреном идёт: «В Ленинград – навстречу гибели, ближе к ней… Скорей бы в Ленинград!» Именно Ольгу Берггольц Ленинград выбрал в те годы своим поэтом».
И что же помогло ей возвыситься и удержаться на этой высоте? Прежде всего, разумеется, поэтический дар, умение преображать ужас в величие и красоту: чудовищную ленинградскую зиму она называет библейски грозной, а воздух, насыщенный копотью, если не смрадом тления, для неё высокогорный, разрежённый и очень чистый. Преображение низкого в высокое – в этом и заключается главное назначение поэзии. Она защищает нас если не от ужасов, то от унижений, на которые так горазда так называемая правда жизни.
Но, сколь бы ни был высок дух, плоть нуждается – да, в пропитании, это само собой. Но она нуждается ещё и в плотских радостях. Пускай и редких, но всё-таки манящих, чтобы было чего ждать. Возможности присесть и передохнуть. Хоть немного согреться. Хоть немного насытиться.
И обнять любимого человека. Чтобы эта надежда хотя бы очень слабо, но светила впереди.
«Жди меня, и я вернусь всем смертям назло».
«Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви».
Не знаю, что скажут по этому поводу психологи и социологи – не уверен, что они когда-нибудь интересовались этим вопросом, – но у меня есть серьеёное подозрение, что не партийные лозунги, а любовь помогла обычным людям превратиться в героев, сумевших выдержать то, что выдержать, казалось бы, невозможно.
Ольга Берггольц для страшных тюремных воспоминаний не находит никаких высоких слов, высоких оправданий – именно поэтому она ими почти раздавлена. Мечтает написать Сталину, каким сиянием, какой надеждой окружено его имя в тюрьме, но поэт не может слагать гимны, если знает, что его никто не услышит.
«У меня отнято всё, отнято самое драгоценное: доверие к Советской власти, больше, даже к идее её…»
«Я всё ругаю себя разными словами – «маловерие», «пороху не хватило», «испугалась трудностей», – но нет! Не трудностей я боюсь, а лжи, удушающей лжи, которая ползёт из всех пор…»
Апрель сорок первого.
«Всё-таки пока не воюем, и за то правительству спасибо. Будем верны знамёнам. С верностью знамёнам и писать».
Она из последних сил держится хотя бы за призраки чего-то высокого.
Четвёртое июня.
«А надо всем этим – близкая, нависающая, почти неотвратимая война. Всеобщее убийство, утрата Коли (почему-то для меня несомненно, что его убьют на войне), утрата многих близких – и, конечно, с войной кончится своя, моя отдельная жизнь, будет пульсировать какая-то одна общая боль, и я буду слита вместе с нею, и это будет уже не жизнь. И если останусь жить после войны и утраты Коли, что маловероятно, то оторвусь (как все) от общей расплавленной массы боли и буду существовать окаменелой, безжизненной каплей, в которой не будет даже общей боли и уж совсем не будет жизни. Так или иначе – очень мало осталось жизни. Надо торопиться жить. Надо успеть хоть что-нибудь записать из того, как мы жили. Надо успеть полюбоваться собой, нарядиться, вкусить от природы, искусства и людей… Не успеть! О, боже мой, не успеть! М. б., я зря отказалась от партии, предложенной А.? Чувство временности, как никогда. Чувство небывалого надвигающегося горя, катастрофы, после которой уже не будет жизни. Если наше правительство избежит войны – его нужно забросать лавровыми венками. Всё – только не она, не Смерть. Только бы не «протягивать руки помощи», – пусть они там разбираются, как умеют. Войны не избежать всё равно. Мы одни в мире. Наши отказы, отступления, перерождения ничему не помогут. Мы всё равно одни. Но не надо ввязываться ни во что. Это не обеспечит нам будущего – спокойного. Если бы ещё советизация Европы – любой ценой, но она невозможна. Да и «любая цена»… Это значит – моя погубленная жизнь, во мне и в миллионах «меня», т. к. я теперь знаю, что все – как я, что все – только Я».
Жесточайшие тюремные уроки не пошли впрок её искренности.
Коля – это её муж поэт Николай Молчанов, о котором Ольга отзывалась так: «Донской казак по происхождению, высокий, удивительно ладный, он был необычайно, строго и мужественно красив и ещё более красив духовно». «Красив духовно» тогда означало – аскетичен. Он считал, что эпоха реконструкции не терпит любовных и семейных нежностей, однако женская любовь на эти уловки не поддалась. В тридцатом году Ольга писала, что «сошлась с Николаем. Сознательно добивалась этого. Всё время хотелось его ласк и поцелуев. Иногда я просто болела им. Его брови меня мучили и то, когда он, которому я по плечо, шёл рядом, и руку мне стискивал – ну, умри, а целуй, а будь моим!»
И двенадцатого июня она снова записывает: «Только одна отрада – Колька».
И вот – ВОЙНА!
А в начале сентября отца, военного хирурга, высылают из города, считает Ольга, на верную смерть.
И всё-таки среди хлопот за отца ей хочется «безумно покрутить с Юрой», Юрием Макогоненко, её будущим мужем и будущим профессором ЛГУ, «а ведь это вот-вот, и, переглядываясь с ним, вдруг чувствую давний хмельной холодок, проваливаюсь в искристую тёмную прорубь.
Это я знаю: любовь к любви, не больше. Он славный, но какое же сравнение с Колькой?! Но он очень мил мне».
Первая бомбёжка, и всё-таки «Юра поцеловал мне указательный палец, выпачканный в губной помаде. Вчера мы забрались в фонотеку. Слушали чудесные пластинки, и он так глядел на меня. Даже уголком глаза я видела, как нежно и ласково глядел».
Советское пуританство требовало этим возмущаться – идёт великая война, а они вот чем заняты! – хотя на самом деле следовало бы восхищаться силой жизни: сильна, как смерть, любовь! И большой вопрос, сумели бы они выстоять, если бы не её воодушевляющая и ослепляющая сила. Если бы существовал обычай награждать чувства, помогающие побеждать, я бы выдал орден Мужества не только Долгу, но и Любви.
А бомбёжки продолжаются.
«Доколе же? Хорошо – убейте, но не пугайте меня, не смейте меня пугать этим проклятым свистом, не издевайтесь надо мной. Убивайте тихо! Убивайте сразу, а не понемножку несколько раз на дню…»
Любовь только передышка, но без этой передышки было бы не выжить.
«Ээх! Но всё-таки сдаваться нельзя! Собственно, меня не немцы угнетают, а наша собственная растерянность, неорганизованность, наша родная срамота… Вот что убивает!.. Но дело обстоит так, что немцев сюда пускать нельзя. Лучше с ними не будет – ни для меня, ни для народа. Мне говорят, что для этого я должна писать стихи и всё остальное. Хорошо, хоть это мучительно трудно, – буду».
«Если б не было гриппа и если б я была уверена, что Юра влюблён и желает меня, у меня б было приличное состояние».
Кто-то, может быть, и сейчас осудит ленинградскую Мадонну, но я считаю, что героев и победителей нужно не судить, а учиться у них, брать у них уроки. Если влюблённость помогает выстоять в ужасающих обстоятельствах, значит, нужно брать её на вооружение.
«Я бываю такая страшненькая, жалкая. М[ежду] п[рочим], когда с 15 до 16 я дежурила в Союзе, он пришёл туда, сидел очень долго со мною, мы хорошо разговаривали, однажды он поцеловал мне руку – за стишок; раза два попробовал прикоснуться головой к плечу, я сделала непроницаемое лицо и вид, что не заметила, – от счастливого страха. Дура. Мы сидели, не затемняясь, в сумерках, небо было розовое от далёких пожаров – Ленинград еженощно в кольце пожаров. Будущий читатель моих дневников почувствует в этом месте презрение: «Героическая оборона Ленинграда, а думает и пишет о том, скоро или не скоро человек признается в любви или в чём-то в этом роде». (Хуже всего, если я смотрю выжидающими глазами.) Да, да, да! Неужели и ты, потомок, будешь так несчастен, что будешь считать, будто бы для человека есть что-то важнее любви, игры чувств, желаний друг друга? Я уже поняла, что это – самое правильное, единственно нужное, единственно осмысленное для людей. Верно, война вмешивается во всё это, будь она трижды проклята, трижды, трижды! Времени не стало – оно рассчитывается на часы и минуты. Я хочу, хочу ещё иметь минуту вневременной, ни от чего не зависящей, чистой радости с Юрой. Я хочу, чтоб он сказал, что любит меня, жаждет, что я ему действительно дороже всего на свете, что он действительно (а не в шутку, как сейчас) ревнует к Верховскому и прочим».
«А может, это действительно свинство, что я в такие страшные, трагические дни, вероятно, накануне взятия Ленинграда, думаю о красивом мужике и интрижке с ним? Но ради чего же мы тогда обороняемся? Ради жизни же, а я – живу. И разве я не в равном со всеми положении, разве не упала рядом со мной бомба, разве не влетел осколок в соседнее окно, в комнату, где я сидела? (Артиллерийская стрельба стала слышнее – немцы или мы по ним? Ведь ими взято Детское, Павловск. Господи, они же вот-вот могут начать штурм города – и с воздуха, и с суши, уцелеть можно будет чудом, – и вот рухнет всё с Юрой… Тем более что его и Яшку всё время хотят взять «политбойцами».) Да что и перед кем тут оправдываться? Я делаю всё, что в силах, и, невзирая на ломающую меня болезнь, на падающие бомбы и снаряды, пишу стихи, от которых люди в бомбоубежищах плачут, – мне рассказывали об этом сегодня».
А как же любимый муж, страдающий помимо всего ещё и эпилепсией, последствием контузии во время военных учений? Никто не забыт.
«Только что был большой припадок у Кольки, наяву. Едва очнувшись, он шептал мне – «любовь моя», – и у меня всё рвалось внутри. Я никогда, никогда не оставлю его, ни на кого не променяю! Я люблю его как жизнь, – и, хотя эти слова истёрты, в данном случае только они точны. Пока он есть – есть и жизнь, и даже роман с Юрой. Если его не будет – кончится жизнь».
Четырнадцатое января сорок второго.
«О Коля, сердце моё, неужели ты погибаешь? Твоё сегодняшнее лицо стоит передо мной неотрывно… Оно страшнее той дикой ледяной ночи, которую я провела с тобой 11 января. Я не в силах была остаться рядом с тобой – я начинаю сама сходить с ума, я изнемогаю от сознания своего бессилия перед снедающей тебя болезнью, – быть рядом с тобой, ничем тебе не помогая, а только слушать твой бред и глядеть в твоё лицо – нет, я не могу, это гибель и мне, и тебе. Солнце и жизнь моя, единственный мой свет, что я могу ещё сделать для тебя, кроме того, что делаю? Ничего! Ничего.
Скоро мы вздохнём с пищей… Но всё равно – мы уедем отдыхать, мы уедем в глубокий тыл, к маме, к хлебу, к тишине… Держись! Держись ещё немного, мой единственный, моё счастье, изумительный, лучший в мире человек! Держись! …Скорее бы утро, чтоб узнать, что ты жив, и начать что-то делать для тебя. А я должна писать. Я должна что-то делать, чтоб выжить, чтоб не сойти с ума, не лечь… Потом, потом, если ты погибнешь, я лягу».
И вот он погиб.
«О, Коля… О, как же это случилось… Какая жизнь у тебя была трудная и горькая, как мало счастья ты видел и умер, не дождавшись его… Нет, мне надо было быть с ним в последние его минуты. Может быть, он узнал бы меня, и я успела бы сказать ему, объяснить ему, как я люблю его. Может быть, он умер бы счастливым… Господи, хоть бы скорее приехала Муся. Жива ли она? Жив ли Юрка? Господи, Господи… Нет, нельзя жить».
Март сорок второго.
«Я совершенно не понимаю, что не даёт мне сил покончить с собою. Видимо – простейший страх смерти. Этого-то страха мы с Колей и боялись, когда думали о смерти друг друга и о необходимости, о потребности умереть после смерти одного из нас. Но он бы всё-таки не струсил, а я медлю; люминала, который остался после него, наверное, хватило бы на то, чтоб отравиться. Нет, я не тешу себя мыслью о самоубийстве. Мне просто очень трудно жить. Мне надоело это. Я не могу без него. Меня корчит мысль о том, как страшно и бессмысленно погиб этот изумительный, сияющий человек. Я ужасаюсь тому, что осталась без его любви. Но пусть бы даже разлюбил – я и недостойна была этой священной его, рыцарской любви, – только пусть бы жил, пусть бы жил… Нет! Нельзя, недостойно, бессмысленно жить».
Но невозможно жить без радостей, без этих духовных витаминов.
«Хочу быть с Юркой. Я не грешу этим перед Колей, – мёртвого я люблю его, как живого, и плотью и душой – больше всех.
Но ведь там же НЕТ, НЕТ Коли. Я вернусь туда, а он не придёт. Там будет всё так же, но его не будет. Нет, на свете не существует ничего, кроме его смерти».
«В немыслимой тоске по Коле я не ощущаю живого чувства к Юре, но, когда подумаю, что этот ладный, милый, с ясными добрыми глазами и крылатыми бровями парень лежит с пробитым осколком черепом, хочется визжать, выть по-собачьи от тоски».
Первое апреля сорок второго.
«Позавчера – огромные письма от Юрки, – пламенные и нежные до безбоязненности. Он пишет, что любит меня, что жаждет моей любви «давно, безраздельной»; узнав, что ребёнка нет, зовёт в Ленинград. Наверное, он и в самом деле любит меня; странно, что это удивляет меня, вызывает какое-то недоумение, сомненье, – а вот Колина любовь была для меня несомненна и вызывала изумление гордое, я гордилась собой за то, что он меня любит. Я всё ещё ощущаю, и особенно после Колиной смерти, Юрку как чужого и испытываю к нему иногда неприязнь за то, что Коля ревновал меня к нему, не любил его, я оставляла часто Кольку ради Юрки, когда была влюблена в него. И из-за этого я испытываю к нему неприязнь, что-то отталкивает меня от него. Я не могла бы сказать сейчас, что люблю его. Я чувствую к нему нежность, чуть покровительственную, он нравится мне, он мне мил и дорог. Позавчера была почти счастлива от его писем и думала о Ленинграде уже не как о месте гибели, но как о месте жизни, где дышать можно будет».
«Я – баба, и слабая баба. Мне нужен около себя любящий, преданный мне мужик. Иногда я думаю, – а, смерть на носу, солнце моё, Колька, – я отдам Юрке остатки сердца, – куда их мне, отдам ему счастье, которого он жаждет… Да, так и надо, надо отпустить сердце. Но он стоит передо мною таким, как я видела его последний раз: со скрещёнными, сведёнными на груди руками, голый, мокрый (это он от холода так скрепил руки), с болезненной гримасой, растоптанный, размолотый беспощадной машиной войны… Нет, отпустила я его руки, устала и не могла превозмочь усталость, устала от него. Предала его. Нет, это неправда, – не предала, а оказалась слабой и малодушной. Как зовёт меня к себе Юрка! Но ведь это – изменить Коле! Я НЕ ИЗМЕНЯЛА ему, – никогда. Отдать сердце Юрке – изменить ему…»
Девятое апреля сорок второго.
«Вчера получила письмо от Юрки от 3/IV, полное любви и преданности. 3/IV он был жив. Оказывается, я написала-таки в одном из писем – «люблю». Сама не помню, что писала. Ну, и хорошо, что написала, – он пишет, что счастлив, и, м. б., верно – счастлив. Почему же не обрадовать человека, если сам так несчастен. Я несчастлива в полном, абсолютном значении этого слова. Сегодня всё время приступами – видение Коли во второе моё посещение госпиталя на Песочной: его опухшие руки в язвах и ранках, как он озабоченно подставлял их сестре, чтоб она перевязала их, и озабоченно бормотал, всё время бормотал, мешая мне кормить его, расплескивая драгоценную пищу. И я пришла в отчаяние, в ярость и укусила его за больную, опухшую руку. О, сука, сука! Он был неузнаваемо страшен, – ещё в первый день, в день безумия, он был красив, и тут – вдруг не он, хуже, чем во сне».
«Я думаю, что вот так хочу в Ленинград, а ведь там тоже нет Коли. Там пустая квартира на Троицкой, – некуда, некуда деться. Там Юрка, – но как же я лягу с ним на ту же постель, где 8 лет лежала с Колей, столько радостей и горя испытывая. Если б он ещё был жив, – другое дело! А тут – ещё раз похоронить его. И я знаю, что Юрка будет внутренне раздражать меня, никогда, никогда не станет он мне так близок, как Николай, хотя вчера я о нём грустила и думала с нежностью».
«О, как я глубоко, глубоко жалею, что не была с ним в его последние минуты! Он наверняка пришёл в себя (доктор сказал – «скончался тихо»), он ждал меня, и я проводила бы его с улыбкой, счастливым, успокоенным… Так пусть же со мной будет всё дурное, что может быть!»
«Юрочка пишет: «Писем нет, беспокоюсь, жду, целую, сообщи, когда прилетите». Скучает, наверное. Я отправила ему ласковую телеграмму, где написала: «Юринька, родной» (самое желанное ему слово), написала, что тоскую, что скоро прилечу. Это, наверное, обрадует его. Боже мой, ничего нельзя жалеть для человека, ходящего под ежеминутной смертью».
«Был днём некто Фефа. Он бывал на Троицкой, когда был жив Коля. (О, что я говорю: «когда был ЖИВ Коля». Измена! Значит, я признаю его мёртвым? Нет, милый псо, нет, – не бойся, не бойся, солнышко, я не признаю тебя мёртвым, – я не дам тебе умереть.) Я, видимо, пьяная, хотя вино после голода ни разу еще не приносило желанного самозабвения. Коля! Коленька! Псоич, солнце. Сердце моё… Ты слышишь, – нет? Ты слышишь, я тебя окликаю. Сколько раз, когда я просыпалась около тебя, мне вдруг казалось, что ты – мёртвый, и я звала тебя: «Псо!!» И ты открывал возлюбленные, милейшие, святые свои глаза и глядел на меня с неизменной любовью. Пёсинька. Родненький. Милый мой. Это неправда, что тебя нет. Ты там. Ты на Троицкой. Если ты не постучишь, не ляжешь рядом со мной, – значит, меня нет. Коля. Коленька. Мой милый. Крест мой, мученье моё. Жизнь моя – вернись! Ведь ты же любил меня. Как же ты не веришь, что я так мучаюсь среди чужих людей. Ты ведь знал, что я останусь одна без тебя. И главное – не рассказать. А я всё думаю: увижу его, лягу рядом с ним, вздохну и скажу: «Ох, если б ты знал, до чего я МУЧАЛАСЬ по тебе!» И он обнимет меня и прошепчет: «Псоич мой!..» То есть, как это? Так вот и не рассказать… Псоич мой. Нет. НЕТ».
Двадцать шестое апреля сорок второго.
«Ленинград чист, он жив, он есть. Я вернулась сюда к новому мужу, к новой любви и счастью – я вижу это теперь. …Я хочу жить. Я не боюсь смерти, – но мне не хочется расставаться с Юркой. …Он любит меня страшно, не скрывая этого ни перед кем, сияя от счастья, как мальчик, получивший долгожданный подарок, он ходит почти бегом, он говорит громким, возбуждённым голосом, он всем, ежечасно – хвастается мною, моими стихами, моими успехами. Даже постороннему человеку трудно не радоваться, глядя на него. Какие восторженные слова говорит он мне – обо мне же, о моих стихах. Не устаёт глядеть на меня, не устаёт целовать, трепещет и боится ежеминутно, что «уйду».
«Пусть он радуется со мною и мне. Я не жалею и не буду жалеть на него ни ласки, ни приветливости, ни любви. Пусть он будет счастливым! В первые дни возвращения, когда ещё особая обида на него за Колю (как будто бы он в чём-то виноват!) держала меня, и я скупилась на приветливость и заводила разговоры, чтоб сказать ему: «Я всё же любила Николая больше тебя», – вдруг меня озарила мысль: «А может быть, мне ещё придётся видеть его в нарывах и язвах, умирающего от газов». Бог знает, сколько ещё муки придётся выдержать и ему, и мне. Нет, нельзя жалеть ни любви, ни ласки, и она исходит уже свободно из души, почти не удерживаемая мощной, угрюмой и больной памятью о Николае…»
А между тем поэзия, высокие слова и высокие смыслы оказываются необходимыми не только экзальтированным поэтическим натурам.
«Три раза выступала с «Февральским дневником» – потрясающий успех, даже смущающий меня. В Союзе – просто ликование. В 42-й и у торпедников – бойцы и моряки плакали, когда читала. Особенно большой фурор – у торпедников, – просто слава».
«Я не считаю стыдом, что упиваюсь сейчас «личной жизнью», но уж хватит, надо что-то делать. Тот восторг, та настоящая человеческая радость, с которой реагируют люди на «Февральский дневник», – ко многому обязывает меня».
И, если личная жизнь подарила восторг и настоящую человеческую радость бойцам и морякам, да здравствует личная жизнь!

