Поколение одиночек. – М.: Издательство ИТРК, 2008. – 640 с.
Вспоминаю филфак МГУ рубежа 70–80-х годов, когда к нам, студентам, на спецсеминар тогда ещё опального Владимира Николаевича Турбина пришёл Вадим Кожинов с целью рассказать о М.М. Бахтине, однако с ходу спросил, а читали ли мы статью молодого критика Владимира Бондаренко о «прозе сорокалетних»?..
В «Поколении одиночек», согласно Бондаренко, две возрастные группы: «дети Победы» и «дети «оттепели». На победных кровавых волнах то ли революций, то ли гражданских и мировых войн обильно появляются, если следовать «генному анализу» автора, в основном «юродивые». Армагеддоном же грезят «пророки», родившиеся в относительно мирные времена социальной апатии и живущие во времена чего-то «развитого», бесцельного и для многих достаточно комфортного. Главная книга первых, несомненно, «Школа для дураков» Саши Соколова, вторых – «Колодец пророков» Юрия Козлова.
О первом, имея в виду, по сути, всю генерацию, Бондаренко пишет: «Смотря на его фотографии, я вижу в его глазах блеск русского юродивого, который и хочет сказать тебе всю правду о юродивом, и не может».
Образ найден, тема задана. Но «юродивых» Бондаренко не следует воспринимать в том смысле, в каком они нам известны по русской житийной литературе. Автором подразумевается, как мне представляется, юродство византийское – Христа ради – самый необычный подвиг благочестия в рамках православной традиции, когда удивительным образом, абсолютно естественно для окружающих мирян сочетались внешняя непристойность и внутренняя святость. Наиболее адекватным такому видению, по мнению критика, соответствует Олег Григорьев.
Автор «Поколения одиночек» осознаёт необходимость именно философской рефлексии текстов «юродивых ХХ века». Ведь в этой достаточно объёмной работе поставлен вопрос об одной из наиболее своеобразных черт русской литературы, которой не знала, да и не могла по природе своей знать литература западная.
Другой, бесспорно, юродивый – Эдуард Лимонов, что доказывать из-за тривиальности тезиса вряд ли стоит. Да и Юрий Кублановский по-своему юродив – в своём косноязычье, которое следует воспринимать как способ активизации скрытых возможностей языка.
Семантическое поле «одиночка» в словарях представлено чрезвычайно широко, особенно его периферийная часть, куда входят такие лексемы, как «изгой», «отшельник», «отщепенец».
Вот почему Бондаренко, характеризуя социально-творческое одиночество своих героев, представляет настоящую палитру его возможных вариантов. У Саши Соколова, к примеру, оно принимает вид ухода в «многолетнее одинокое молчание». Одиночество Анатолия Афанасьева проистекало из-за никому не нужного в последние десятилетия донкихотства и одновременно из-за непонимания «пассивности людей, целого народа» перед творящей зло криминальной властью. Ему противопоставлен такой крайне редкий ныне в России тип художника, как Пётр Краснов, убеждённый, наоборот, в том, что «суть любого талантливого художника не в разоблачениях и проклятиях, а в поисках своего художественного, а значит, и божественного противостояния этому злу по самой природе своей». Не находит родственной души в своей преданности и неистовой вере в старую Москву, в Замоскворечье, поэт Александр Бобров. Прорастает «сквозь асфальт», явно выделяясь на фоне своего поколения, «не похожая ни на последователей Валентина Распутина, ни на последователей Василия Аксёнова» женщина «с мужским твёрдым характером» Вера Галактионова. Также редки среди людей бунтари и вольнолюбцы, которых в поколении «детей Победы» представлял Леонид Губанов – «варвар русской поэзии». Или вот такой «двойной реквием» по одиночеству в стихах Ивана Жданова: «Когда умирает птица, В ней плачет усталая пуля, Которая так хотела Всего лишь летать, как птица».
Такой же чужой, как и Кублановский, во всех поэтических лагерях видится Бондаренко и Ольга Седакова, к которой относится с нескрываемой симпатией, почти с восторгом. Одиноки среди «детей Победы» и Александр Щуплов, и Михаил Ворфоломеев, и Евгений Нефёдов, и Татьяна Реброва.
В многочисленных культурных контекстах 70–90-х одиноки, но глубоко по-своему, и «дети «оттепели». Бондаренко, удивительно точно идентифицировавший суть явления, включает в свою историю русской литературы Вячеслава Дёгтева, мечтавшего с детства стать русским Робин Гудом, но ставшего, скорее, Джеком Лондоном.
Вряд ли правильным будет назвать «юродивым» кого-либо из «детей «оттепели», или, если до конца следовать классификации Бондаренко, «рождённых в пятидесятые». Что же их отличает от предыдущего призыва? Прежде всего – опора на собственный опыт, стремление честно прожить. Кого ни взять – у каждого тяга вырваться из общего круговорота. У того же Юрия Полякова одиночество в современной литературе было, по Бондаренко, чуть ли не запрограммировано изначально. Прежде всего из-за предельной искренности и простодушной иронии, моментально обособивших его в кругу сверстников. Ведь Поляков никогда не скрывал, что он смолоду был традиционалистом, государственником, противостоящим попыткам разрушения русской государственности. Но он сегодня – лучший пример для молодых писателей тем, что проживает свою жизнь вполне традиционно, не вставая на котурны, то есть так, как издревле было принято в нашем народе.
Ставят же точку в книге слова одного из «детей «оттепели», уже не юродивого, но настоящего пророка, произнёсшего во времена смуты и разброда: «И расцветёшь на зависть всем врагам, Несчастная великая Россия!» Кому-то может показаться прихотью желание Бондаренко разместить в пантеоне «детей «оттепели» Игоря Талькова, более того, закончить главой о нём книгу. Но не случись этого, сама её идея выглядела бы куцей и неубедительной, уменьшающей вклад «пророков» в национальное возрождение русского народа.
Например, вполне внешне респектабельного и социально благополучного Юрия Козлова. Это, скорее, один из пророков, увлечённый мистическими и религиозно-философскими мотивами, наделённый поразительной способностью «вписать» в единое художественное пространство реалии современной жизни и традиционные мифологические модели. Сам Бондаренко недоумевает, кем же считать Козлова – мыслителем-прорицателем «с угрюмой иронией» или собственно романистом.
Воспевая подвиг «одиночек», Бондаренко бросает горький упрёк своим нынешним «товарищам по цеху». «Трагедия современной литературы всех направлений в том, что она боится прикоснуться к действительности, боится пророчествовать, предвидеть, опровергать и приветствовать… Так называемая современная литература на 90% депрессивная литература. Депрессивные герои, депрессивные сюжеты. Кто будет её читать?» И как в последней надежде он вновь и вновь протягивает руку «своим» – исчезнувшим и живым, неприкаянным и удачливым, потерянным и благоденствующим.
, профессор, доктор филологических наук

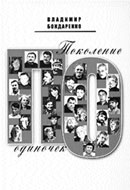 Владимир Бондаренко.
Владимир Бондаренко.