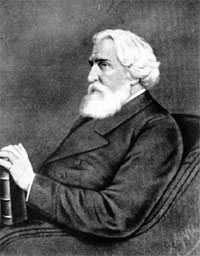 Сейчас уже не все помнят, что всемирная слава русской литературы началась не с Пушкина, не с Лермонтова, не с Гоголя и даже не с Льва Толстого и Достоевского, а с Ивана Сергеевича Тургенева. Добавим, во многом благодаря авторитету Тургенева, его ярким предисловиям на французском языке европейская публика познакомилась с произведениями названных писателей.
Сейчас уже не все помнят, что всемирная слава русской литературы началась не с Пушкина, не с Лермонтова, не с Гоголя и даже не с Льва Толстого и Достоевского, а с Ивана Сергеевича Тургенева. Добавим, во многом благодаря авторитету Тургенева, его ярким предисловиям на французском языке европейская публика познакомилась с произведениями названных писателей.
У западных читателей свои, специфические вкусы, но всё же не совсем понятно: почему такая честь выпала именно Тургеневу? Ведь всемирная слава пришла к нему позже, чем появились на свет «Капитанская дочка», «Герой нашего времени», «Мёртвые души», «Записки из Мёртвого дома». Ответ на этот вопрос затрудняет то обстоятельство, что теперь на Западе произведения Тургенева не так популярны, как произведения Гоголя, Толстого, Достоевского, Чехова.
Многие исследователи полагают, что Тургенев покорил зарубежных читателей романом «Отцы и дети» (1862 г.). Дескать, проблематика романа о нигилисте была им близка и понятна. Так ли это? «Отцы и дети» и впрямь чудесная, психологически глубокая, исполненная мягкого юмора книга, но обратимся к свидетельствам современников Тургенева – известных иностранных писателей. В дневнике братьев Гонкур за 23 февраля 1863 года записано: «Обед у Маньи. – Шарль Эдмон приводит к нам Тургенева, этого иностранного писателя с таким тонким талантом, автора «Записок русского дворянина», автора «Русского Гамлета». (Так назывались во французском переводе «Записки охотника» и «Гамлет Щигровского уезда»). На этом литературном обеде Тургенев познакомился и с Гюставом Флобером. Через три недели, прочтя два тома избранных повестей и рассказов Тургенева «Картины из русской жизни» («Отцов и детей» там не было), Флобер пишет Ивану Сергеевичу письмо. В нём, в частности, есть такие слова: «Давно (курсив мой. – А.В.) уже вы являетесь для меня мэтром. Но чем больше я вас изучаю, тем более меня изумляет ваш талант». Особо выделяет Флобер такие рассказы Тургенева, как «Три встречи», «Яков Пасынков», «Дневник лишнего человека». В последующей переписке с Тургеневым (период 1869–1873 гг.) крупнейший французский писатель восторженно отзывается о «Накануне» (правда, нравился ему не столько Инсаров, сколько Елена Стахова и Шубин), «Первой любви», «Степном короле Лире», «Стук… стук… стук!..», «Несчастной» («редкий шедевр»), «Вешних водах» («очаровательно»), «Чертопханове и Недопюскине» и «Конце Чертопханова».
Из откликов братьев Гонкур и Флобера прямо следует, что на них, как и на русских читателей в своё время, произвели неизгладимое впечатление ранние рассказы и повести Тургенева – из книги «Записки охотника» – и даже более ранние – «Три встречи», «Яков Пасынков». Но ни у братьев Гонкур, ни у Флобера мы ни слова не встретим об «Отцах и детях».
Обаянием своей личности и своего творчества Тургенев вызвал во Флобере такое уважение ко всему русскому, что тот писал в позорные для Франции дни (февраль 1871-го) племяннице Каролине: «…я настолько перестал считать себя французом, что собираюсь спросить у Тургенева (лишь только можно будет ему написать) – как сделаться русским». Правда, и Флобер честно признавался, что ему до конца не ясно, почему тургеневская проза оказывает на него такое воздействие: «Я хотел бы быть учителем риторики, – писал он Ивану Сергеевичу 2 августа 1873 г., – чтобы разъяснить ваши книги. Заметьте – я не сумел бы их разъяснить (курсив мой. – А.В.)».
Однако мы всё же попытаемся сделать то, что не удалось Флоберу. Для этого лучше вернуться к первому впечатлению французов от встречи с Тургеневым. Братья Гонкур, 23 февраля 1863 г.: «Это очаровательный великан, кроткий гигант с седыми волосами, похожий на доброго духа лесов или гор. Он красив, величаво красив, в глазах его синева неба, в говоре очарование русского акцента, этого напева, в котором есть что-то от речи ребёнка и негра». Что ж, из этих слов уже кое-что ясно. В парижский литературный мир с его атмосферой уважения и даже преклонения перед талантом (которую не мешало бы позаимствовать и нам, русским, «вечно рвущим братское мясо», по выражению Шульгина), но всё же мир тесный, душный, мелковатый, с преобладанием чувственных ощущений над духовными пришёл великан, величавый не только своей физической красотой, но и отразившейся в его глазах синевой русского неба, овеянный духом русских лесов и полей…
И личной физической мощью, и мощью своего, вскормленного отнюдь не в прокуренных литературных салонах таланта Тургенев как бы говорил французским писателям, что существует совершенно иной масштаб восприятия мира, нежели тот, к которому они привыкли. Неслучайно Эдмон де Гонкур с восторгом записывает рассказ Ивана Сергеевича (27 ноября 1875 г.): «В южной России бывают стога сена, высокие, как этот дом. Туда влезают по лестнице. Я несколько раз ночевал там. Вы себе не представляете, какое там небо: оно совершенно синее, тёмно-синее и усеяно крупными звёздами. К полуночи в воздухе разливается мягкое и величественное тепло (я привожу его выражение. – Э.Г.), – оно опьяняет!.. Однажды, когда я лежал на спине, на вершине одного из таких стогов, наслаждаясь ночью, я поймал себя на том, что глупо повторял: «Раз, два! Раз, два!» Не знаю, сколько времени это продолжалось». Для русского читателя в таком рассказе нет ничего особенного, а вы представьте себе восприятие французского писателя-буржуа, который, наверное, на свежем воздухе-то ни разу в жизни не ночевал, а уж на стоге сена высотой в дом и подавно! Тургенев не только сам появился среди субтильных парижан как некий «очаровательный великан», он показал им в своей прозе страну великанов.
Вопреки мнению, идущему ещё от Достоевского, человека гениального, но порой пристрастного, Иван Сергеевич вовсе не был неисправимым, законченным западником, пляшущим под дуду своих французских друзей-писателей. Даже живя в Париже, он никогда не писал, как Набоков, на чужом языке, хотя частенько страдал от несовершенства французского перевода своих книг. Но променять «великий, могучий, правдивый и свободный» русский язык на какой-нибудь другой Тургенев не мог. А вот о французском языке он высказывал на парижских литературных обедах такое мнение: «Ваш язык, господа, производит на меня впечатление инструмента, изобретатели которого простодушно искали ясности, логики и грубо приблизительных определений. А сейчас этот инструмент оказался в руках людей самых нервных, самых впечатлительных и менее чем кто бы то ни было способных удовлетвориться этой грубой приблизительностью». Эдмона де Гонкура эта мысль так поразила, что без всяких изменений поместил её в своём романе «Актриса Фостэн» (и самого Тургенева – инкогнито).
Когда в 1870 г. армия Наполеона III начала терпеть тяжёлые поражения от пруссаков, Иван Сергеевич, ничуть не боясь обидеть своих французских друзей-писателей, писал в «Санкт-Петербургских Ведомостях»: «Французам нужен урок… потому что они ещё многому должны научиться. Русские солдаты, умиравшие тысячами в развалинах Севастополя, не погибли даром…».
Будучи действительно по политическим убеждениям умеренным либералом (так сказать, либералом-аристократом), Тургенев, однако, не выносил уже тогда свойственной либеральным журналистам манеры подтасовывать факты. 22 января 1858 г. в газете «Норд», издававшейся в Париже по-французски на средства русского правительства, была помещена анонимная корреспонденция из Москвы, искажающая роль славянофилов в борьбе за освобождение крестьян от крепостного права, хотя, как известно, их роль была одной из самых активных. Тургенев, далёкий от славянофилов «как по своим воззрениям, так и по своей литературной деятельности», написал, тем не менее, 28 января 1858 г. в открытом письме редактору «Норда»: «Славяне никогда не оставались чужды подготовляющемуся движению: более того, они принимали в нём участие и продолжают это делать в меру своих сил; и, конечно, в России никому не придёт в голову отказывать им в этой заслуге».
Следует также развеять давнюю сплетню, к которой излишне доверчиво отнеслись и А.Я. Панаева, и Ф.М. Достоевский, и многие другие, – о том, что 19-летний Тургенев, находясь на борту горящего парохода, кричал: «Спасите, я единственный сын у матери!» (тогда как у него был брат). «Анекдот» этот сочинил в своё время злой на язык князь П.А. Вяземский, а анекдоты и пересказы событий Вяземским, как хорошо известно (по судьбе Пушкина, например), скорее, можно назвать литературным явлением, нежели отражением реальных событий. Но, надо сказать, отнюдь не Вяземский внедрял в литературных кругах этот «анекдот», когда Тургенев стал всемирно известным писателем. Кто же это был? Князь П.В. Долгоруков, который не без оснований считается одним из главных претендентов на авторство пасквильных писем Пушкину! А к сведениям, распространяемым профессиональными клеветниками, надо относиться куда как осторожно… Не мешает также знать, что ответил на эту сплетню сам Тургенев (в письме редактору «С.-Петербургских Ведомостей» от 9 июля 1868 г.): «Близость смерти могла смутить девятнадцатилетнего мальчика – и я не намерен уверять читателя, что я глядел на неё равнодушно, но означенных слов, сочинённых на другой же день одним остроумным князем (не Долгоруковым), я не произнёс». «Остроумный князь» (т.е. П.А. Вяземский) был в ту пору ещё жив и не опроверг публично утверждения Тургенева.
В тогдашней литературной и политической полемике бывал не прав и Тургенев, а его давний оппонент Достоевский, напротив, совершенно прав, но доброе имя человека и писателя не имеет никакого отношения к любой полемике. Тем более что, как выясняется, нет никаких веских оснований подвергать сомнению доброе имя Тургенева. Когда Иван Сергеевич умер в Буживале, русские люди – ни в Париже, ни на Родине, куда его привезли хоронить, – не вспомнили о своих политических и литературных убеждениях. О том, что означала для них смерть великого писателя, лучше всего говорят строки из дневника Эдмона де Гонкура (7 сентября 1883 г.). До сей поры французские писатели знали лишь одного русского великана, а в скорбный день их появилось вдруг на улицах Парижа великое множество: «Сегодня религиозная церемония над гробом Тургенева вызвала из парижских домов целый народ гигантского роста с плоскими чертами лица, с бородами Бога-Саваофа: целая маленькая Россия, о которой даже и не подозревали, что она живёт в нашей столице».
Когда Иван Сергеевич умер в Буживале, русские люди – ни в Париже, ни на Родине, куда его привезли хоронить, – не вспомнили о своих политических и литературных убеждениях. О том, что означала для них смерть великого писателя, лучше всего говорят строки из дневника Эдмона де Гонкура (7 сентября 1883 г.). До сей поры французские писатели знали лишь одного русского великана, а в скорбный день их появилось вдруг на улицах Парижа великое множество: «Сегодня религиозная церемония над гробом Тургенева вызвала из парижских домов целый народ гигантского роста с плоскими чертами лица, с бородами Бога-Саваофа: целая маленькая Россия, о которой даже и не подозревали, что она живёт в нашей столице».
