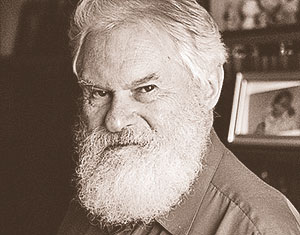«ЛГ»-досье
Владимир Микушевич (5 июля 1936 г., Москва) – поэт, переводчик, философ, прозаик. Окончил институт иностранных языков. Преподавал в Литературном институте, читал лекции в МИФИ, МАрхИ и других вузах. Ведёт студию поэтического перевода в Институте журналистики и литературного творчества. Переводил Новалиса, Гёльдерлина, Поупа, Кретьена де Труа, Гофмана, Свифта, Петрарку и др.
– Владимир Борисович, вы переводили произведения разных эпох: это и Средневековье, и Ренессанс, и Романтизм, Бель Эпок… Какой-то период выделяете особо?
– Для меня интереснее всего то время, в котором я живу. Считаю, что поэзия на то и поэзия, чтобы относиться к любой эпохе, в том числе к той, в которой я живу. Позволю себе заметить, что понятия «Возрождение» и «Ренессанс» устарели в современной культуре. Всё это относится к Новому времени, а предшествует этому в Европе культура романско-готичес
– Из созвездия писательских имён кто вам ближе?
– Здесь я, наверное, должен назвать имя Райнера Марии Рильке, которого перевожу всю жизнь. Мне пришлось провести зиму без дров в этом доме, где мы с вами разговариваем – я отказался от переводов с подстрочника, всё делал сам. Это была зима, по-моему, 61–62-го. Тогда у меня начал складываться перевод Рильке; он считался у нас непереводимым поэтом, но к нему был огромный интерес, учитывая его значение для Пастернака и Марины Цветаевой. И вот сейчас, к 80-летнему юбилею, вышел почти полный корпус поэзии Рильке. Большое значение для меня имели переводы Гельдерлина и Новалиса. Кроме того, много для меня значил – в частности, как для оригинального поэта – немецкий поэт ХХ Готфрид Бенн.
– Тогда давайте о немцах. Если мы вспомнили о Рильке, уместно поговорить о его великих предшественниках
– Я думаю, что это не промежуточное искусство, это синтез того и другого, синтетическое искусство, которое объединяет живопись и музыку. Кроме того, Новалису принадлежит глубокая мысль о том, что существуют три вида перевода, и этой мыслью я руководствовался
– Вы сами какой переводчик?
– Есть, конечно, переводы свободные, но третий вид перевода по Новалису для меня главный, потому что я перевожу не отдельные слова и не отдельные строки, я перевожу все стихотворение и поэму. Мой переводческий метод заключается в том, чтобы вобрать произведение в себя. Для этого надо хорошо знать язык, до мелочей, на какое-то время приостановить работу, и чтобы оно потом, уже как мое произведение, проявлялось в русской стихии. Поэтому я часто говорю, что не перевел ничего такого, что я сам бы не написал. Это требует, конечно, знания языка, потому что где-то здесь, в глубинах, языки все соприкасаются. Вот здесь начинается перевод, который и до оригинала, и до моего перевода, который коренится в той таинственной стихии языка, с которой я работаю. Вообще, я полагаю, что есть два вида перевода: перевод-подражан
– У кого из великих учились науке перевода?
– Я считаю, что принадлежу к русской школе поэтического перевода, и в этом смысле я бы назвал Жуковского и Бунина.
– Иван Алексеевич переводил с английского; вы тоже брались за авторов, пишущих на языке Шекспира. Но давайте поговорим о нём самом. До сих пор не утихают споры вокруг личности великого поэта…
– Вы знаете, я смотрю на этот вопрос не так, как на него смотрит обычное литературоведени
– О вашей работе над сонетами Шекспира…
– Для меня главное в сонетах Шекспира то, что это не собрание отдельных стихотворений, это роман. Высказываются разные гипотезы, что это чуть ли не случайное собрание сонетов – меня это не убеждает. Как бы то ни было, в результате получился роман, в результате таинственных творческих судеб. Это роман о судьбе двух друзей, которых разобщает некая дама, которую неправильно называют «смуглая леди», так как она «тёмная леди». Они оба в неё влюбляются, она не соединяется ни с одним из них, но их разобщает. В конечном счёте, прообразом этого является алхимическая реакция: когда два элемента могли бы образовать философский камень, бывает стадия почернения. Вот эта стадия почернения – тёмная леди, которая не дала им соединиться, и в этом смысле это ещё одна трагедия Шекспира. Сонет здесь не отдельное стихотворение, а строфа романа, отдалённо предвосхищающая онегинскую строфу, о которой говорят, что это модификация сонета.
– Вы взялись за сонеты, которые известны у нас в переводах Самуила Маршака. Что вы можете сказать о своём знаменитом предшественнике?
– Я всегда с осторожностью и с уважением говорю о других переводах. Разные переводы в конце концов выделяют достоинства того перевода, у которого эти достоинства есть. Что касается Маршака, то это явление нашей поэтической культуры 40-х годов. Позволю себе дерзкое утверждение, что к Шекспиру они большого отношения не имеют. Это лирика 40-х, местами напоминающая мне Степана Щипачёва – «Любовью дорожить умейте». Это не упрёк, по тем временам даже достоинство, но я не советую судить о Шекспире по таким переводам, хотя призываю при этом сохранить уважение к Маршаку и сам ценю поэтические достоинства этих произведений.
– А знаменитые пьесы? Вы занимаетесь драматургией Шекспира?
– Вы знаете, никогда не переводил. Но я перевожу сейчас поэму Артура Брука «Трагическая история Ромеуса и Джулиетт», которая легла в основу трагедии Шекспира. Кроме того, я всё время размышляю над творчеством Шекспира в аналитическом плане. Здесь меня в особенности интересует его «Буря», где концепция такова: реальная действительность дана из того же материала, что и сны. Кроме того, у меня есть эссе «Время в поэзии Шекспира» и предпосланное моему переводу сонетов большое эссе… вернее, отчасти, своего рода, это даже эссеистический роман, который так и называется – «Роман Шекспира».
– Что значит для вас Джонатан Свифт?
– Он был замечательным поэтом…
– Вы перевели «Дневник для Стеллы»?
– «Дневник для Стеллы» перевёл искусствовед и историк английской литературы. Айзик Ингер, я перевёл только поэтические фрагменты. Кстати сказать, мне ошибочно приписан один прозаический фрагмент – пользуясь случаем, подчеркну, что прозу из этого цикла я не переводил вообще. Прошу непременно упомянуть, что всю прозу там переводил Айзик Геннадьевич. Но я переводил стихи Свифта для Стеллы, которые он писал для знаменательных дат. Это женщина, с которой он был связан странными узами – это долгая и сложная тема, о двух женщинах, которые были в его жизни. Я перевёл замечательную поэму «Каденус и Ванесса», посвящённую другой женщине, имеющей основания претендовать на то, что она была его возлюбленной, но ни то, ни другое не доказано. Повторю, что из «Дневника…» я переводил только стихи, и эта работа доставила мне большую радость. А что касается «Каденуса и Ванессы», я вообще считаю, что это один из моих лучших переводов.
– Из итальянцев вы кем интересуетесь?
– Главной своей работой с итальянского я считаю перевод поэмы Петрарки «Триумфы». Там содержится концепция истории, новейшая, эта поэзия стоит у истоков новой поэзии вообще, не говоря уже о тончайших нюансах любовной истории с Лаурой, в чём-то эти отношения напоминают последнее объяснение Онегина и Татьяны. Не исключаю даже некоторые переклички Пушкина с Петраркой. Когда я перевёл «Триумф смерти», где мёртвая Лаура сообщает Петрарке, что всю жизнь его любила, я думал, что после этого вообще переводить больше ничего не буду, но, как видите, ошибался.
– Кого вы сейчас переводите?
– Я перевожу сейчас Стефана Георге, и надеюсь сейчас закончить Артура Брука. Кроме того, очень важная работа – это первая книга поэмы Эдмунда Спенсера, «Фэйри Квин» – «Королева фей». Первую книгу я перевёл. Теперь передо мной стоит сложная задача: написать комментарий к ней. Это, в общем, необходимо мне сделать. Это огромная поэма. Я рад, что мне удалось перевести хотя бы первую книгу о святости.
– Мы с вами говорили о Рембо – вы перевели «Гласные», а ещё кого-то из французских авторов переводили?
– Я переводил много Виктора Гюго, значительная часть этих переводов не опубликована. Не состоялось то издание «Художественной литературы», где они должны были появиться. Я никогда не переводил специально для какого-то издания. Это издание давало мне возможность их опубликовать. К сожалению, у нас до сих пор не знают Виктора Гюго – великого поэта, равнозначного для французов Пушкину. Дело в том, что Гюго написал огромную книгу стихов «Легенда веков». Некоторые стихи оттуда я перевёл, и моей целью и задачей является их опубликование. Кроме того, я хотел бы ещё перевести некоторые стихи Шарля Бодлера.
– Некоторые… А какие уже переведены? И почему – вот Виктор Гюго, и затем неожиданно – Бодлер, который нам известен, как один из «проклятых поэтов»?
– Но Рембо тоже один из «проклятых поэтов»…
– Так мы к Рембо сейчас ещё раз и вернёмся. То есть романтик Гюго, и тут же у вас интерес к «проклятым поэтам», конкретно вот к Шарлю Бодлеру. Кем «Цветы зла» на русский переведены?
– Они были много раз переведены.
– Какой вы считаете каноническим?
– Я бы выбрал перевод Эллиса.
– А чем вам интересен Бодлер?
– Бодлер открывает вообще эпоху современной поэзии. Он открыл действительно современность, о чем он интересно писал в своем эссе “Художник современной жизни”, где он выдал понятие «ля модерните». Его надо понимать именно как «современность». Потому что романтики были во многом устремлены именно в прошлое. Он раскрыл поэзию именно современной жизни, и он раскрыл «современное» в прошлых эпохах, в том числе в античности.
– Сейчас я возвращаюсь к Артюру Рембо. Еще один из плеяды «проклятых поэтов». Рано прозвучавший, невероятно успешный и внезапно оставивший поэзию, сделавшийся коммерсантом. Расскажите про ваши переводы Рембо. Чем он вам интересен?
– Рембо интересен для меня чувством поэтического слова и даже звука. В этом смысле, мой интерес к нему сосредоточиваетс
– Как вы думаете, поэт может перестать быть поэтом? Как в случае Рембо: может ли замолчать муза? Может быть, муза оставила его за какие-то прегрешения?
– На это я коротко отвечу: поэт остается поэтом, даже если он замолчал на всю остальную жизнь.
– Как известно, «проклятые поэты» сильно повлияли на русских символистов; многие поэты Серебряного века являлись ещё и переводчиками. Как вы оцениваете их работы?
– Знаете, в своё время я с Павлом Григорьевичем Антокольским об этом говорил. И он мне сказал, что хороший перевод живёт в литературе как перевод десять лет. Я думаю, что надо раскрыть смысл высказывания Павла Григорьевича, и он бы со мной согласился. Если это перевод хороший, по истечении десяти лет он становится оригинальным произведением. В значительной степени это касается переводов поэтов эпохи, неудачно названной Серебряным веком. Это определение дал в эмиграции Николай Оцуп. Над этим иронизировал Адамович, говоря, что правильнее было бы называть век посеребрённым. На самом деле в этом есть даже что-то принижающее поэтов того исторического периода. Они действительно все практически переводили. Объяснение тому простое: они чувствовали своё присутствие в мировой культуре. Это относится и ко мне.
– Давайте поговорим о вашем творчестве: когда вы начали писать стихи?
– Затрудняюсь ответить, потому что ещё маленьким, не умея ничего записывать, я постоянно что-то бормотал, пугая окружающих. Затрудняюсь определить, была ли это поэзия или проза. Возможно, что и в моей прозе как-то это отразилось. Например, у меня был, помню, целый роман или эпос о летучих мышах. Это у меня проявилось в стихотворении «Психея в жизни», в моей книге «Крестница Зари». В общем, я не представляю себе своей жизни в отдельности от своей поэзии. У меня такое впечатление, что это началось ещё до моего рождения.
– Вы пишете не только поэзию, но и прозу. Ваша проза, ваши романы, «Воскресение в Третьем Риме», «Таков ад: новые расследования старца Аверьяна», я просто хотел перечислить…
– А первая книга – «Будущий год: Роман-мозаика».
– «Будущий год», да. «Воскресение в Третьем Риме»… Так вот, Москва по-прежнему остаётся «Третьим Римом, Четвертому не бывать»? Неужели прав был Освальд Шпенглер? Действительно ли мы наблюдаем сейчас — с запозданием — «закат Европы»?
– Видите ли, название книги Шпенглера неверно переводят. Это называется «Унтерганг дес Абендландес». Речь идет не собственно о Европе, а о Абендланде. Это Северная и Западная Европа. Он говорил, например, что Румыния сюда не входит. Понимаете, это название заключает в себе свою правду. Но его нельзя понимать буквально, как завершение исторической эпохи. Шпенглер вообще силен своими частностями, а не общими концепциями.
– «Воскресение в Третьем Риме» – произведение многоплановое. Драматургическая триада нарушена. Место неизменно – Россия, Москва, но разбегаются время и действие. Мы видим реалии сегодняшние, события недавнего прошлого, есть экскурсы в глубь веков. О чем Ваш роман?
– Роман исторический, но он и о современности, в каком-то смысле даже о будущем. Поэтому в конце написано: конец первой книги. Надпись вводит в заблуждение мистифицирует читателей. «Воскресение в Третьем Риме» вполне законченное произведение, но когда роман заканчивается так, как он заканчивается, я не хочу расхолаживать будущих читателей. Он является первой книгой, а будущие книги будут уже после того, как произойдет то, что предсказывает этот роман.
– О книге «Таков ад: новые расследования старца Аверьяна». Детективный сюжет, жанровость – это такой манок для читателя, который, как известно, любит детективы?
– Нет, нисколько. Это вообще свойство действительности наших так называемых нулевых. «Таков ад» посвящён нулевым годам и злободневным, на самом деле, вещам. Там есть о залоговых аукционах; там есть новелла (я называю их новеллами, а не рассказами, потому что рассказ – это об одном событии, а здесь обычно история целых жизней) об инженерах, которых некая фирма забыла в тайге, и они там замёрзли. Книга вообще сугубо реалистическая, но так складываются обстоятельства, что чем реальнее эта действительность
– О вашем поэтическом творчестве. Вы писали стихи в эпоху и фронтовой поэзии, можно ведь так сказать?
– Ну, на военную тему. Может быть, стоит вспомнить, что среди нынешних поколений я уже один из тех немногих, кто реально помнит войну.
– Как вы относитесь к военной поэзии вообще?
– В ту пору появилось несколько прекрасных стихотворений. Прежде всего «Враги сожгли родную хату» Исаковского – это классика русской поэзии, которая наравне с Некрасовым и, может быть, даже с Пушкиным останется в веках. Люблю некоторые стихи Семена Гудзенко.
– Следом идут «шестидесятники» – знаменитые поэтические вечера, выступления в Политехническом. Вы москвич. Вы на них не ходили?
– Меня на них не звали и совершенно правильно делали. Они хорошо понимали, чем я от них отличаюсь. Дело в том, что эти мероприятия называли вечерами поэзии, но на самом деле это были вечера стихотворной публицистики. В этом жанре я никак не замечен. Несомненно, там звучало много такого, что надо было высказать, но в результате – произошла девальвация стиха, за которую мы расплачиваемся и поныне. Да, были и стихи, но чаще всего – рифмованная публицистика.
– Потом в России с перестройкой появились произведения авторов, до того существовавших в андеграунде, стали печатать то, что ходило в списках, читалось на кухнях, отсылалось на Запад. Как вы относитесь к такого рода поэзии, вообще к постмодернизму?
– Постмодернизм – очень сложное явление. В двух словах я не могу его охарактеризовать
– В вашем стихотворном творчестве много верлибров. Как вы относитесь к нерифмованной поэзии?
– Это совершенно естественная форма поэзии. Возможно, что ей даже принадлежит будущее. Пушкин, во всяком случае, так говорил, что в русском языке довольно ограниченные рифмы, что рано или поздно мы перейдем на нерифмованный стих. Такие высказывания были даже у классика! Но я не согласен с тем, что я пишу именно верлибры. Верлибр – явление западное и, главное – полиграфическое, это то, что набирается. Большая часть моих свободных стихов до сих пор не напечатана. Тем более, она не была напечатана в свое время. Я называю это свободным стихом и не считаю отдельной поэтической формой. Когда я пишу, то предоставляю стихотворение самому себе, и оно может принимать такую форму, которую литературоведы (употребляю это слово не без иронии), но и читатели тоже воспринимают как свободный стих. Для меня это доломоносовская поэзия, которая восходит к «Слову о полку Игореве» и к «Слову о законе и благодати» митрополита Илариона.
– Вы вобрали в себя всю мировую культуру, всю русскую литературу, даже доломоносовских времен, западную культуру? Мультикультурали
– Видите ли, есть замечательное высказывание Розанова, что славянофилы как раз и были русскими европейцами. Они, соприкоснувшись с западной культурой, разочаровались в ней и стали искать что-то в родной культуре. В каком-то смысле это относится и ко мне. Я прочитываю поэзию английскую, немецкую, французскую не совсем так, как прочитывают наши современники в этих странах. Я прочитываю это все, вероятно, с русской точки зрения. Мультикультурали
–— Философию вы переводите как «любомудрие».
– Ну, это не только я.
– Просто чаще всего «философию» переводят как «любовь к мудрости», согласно словарям. Но в российской истории были «архивные юноши», которые называли себя любомудрами. Туда входили и князь Одоевский, Тютчев, Веневитинов. Считаете ли Вы себя их идейным наследником?
– Наверное, да. Но обществу любомудров наследовали и (многие этого не осознают) – обэриуты. Эта линия, вероятно, идет и ко мне.
– А как Вы относитесь к творчеству Хармса, Введенского, Заболоцкого?
– Замечательные поэты! Поскольку Хармс и Введенский погибли, то Я особенно подчеркиваю значение творчества Заболоцкого. О нем я написал эссе, оно есть в сети – называется «Только лепет и музыка крыл».
– Известно ведь, что Заболоцкий пережил своего рода эволюцию. Вам ближе Заболоцкий – автор «Столбцов» или поздний Заболоцкий, периода «Последней любви»?
– Мне близок Заболоцкий и тот, и другой. На самом деле, Николай Алексеевич внутренне един.
— В чём, по-вашему, причина его, скажем так, стилистической трансформации?
– Потому что он исчерпал ту манеру и открыл то, что таилось в ней. На самом деле его поэзия та же и то же мироощущение. «Только лепет и музыка крыл» – было и в «Столбцах». Это ощущение мира как музыки. Думают, что Заболоцкий – последователь Федорова и так далее. На самом деле, Заболоцкий – поэт трагического исчезновения мира. «Приходят боги, гибнут боги,/ Но вечно светят небеса!», потому что последний его шедевр «Рубрук в Монголии» во многом означает возвращение к «Столбцам».
– Вы писатель, переводчик, преподаватель. Делясь своим опытом, показывая новым поколениям красоты литературы, вы её тайну постигли?
– Вы знаете, я не очень люблю слово «литература», как и Верлен. Я создал новый перевод его стихотворения «Поэтическое искусство», оно кончается такими строками: «Стих – озаренье балагура. Так ветер запахами пьян, минуя мяту и тимьян. Иначе, всё – литература». Вот «всё – литература» – это меня не привлекает. Я считаю, что моя стихия – это поэзия. Кстати, проза – тоже поэтический жанр. Что касается моей жизни, я могу дать такой совет: работайте. Я всю жизнь только работал. И должен сказать, что мои усилия всегда находили понимание окружающих, которые берегли меня. Я не переживал тех тяжёлых конфликтов, о которых обычно говорят, если речь заходит о двадцатом веке. По-моему, основная особенность поэзии – оказывать воздействие. Для меня поэзия – разновидность магии и сказки, и в этом смысле всегда находились люди, которые на это воздействие откликались, поддерживали меня и давали мне возможность работать. И продолжают помогать. Прежде всего это моя дорогая жена, но и немало других людей, которые живут вокруг меня, которые меня читают. Я чувствую их поддержку и продолжаю работать.
Беседу вёл
Владимир АРТАМОНОВ
Сердечно поздравляем Владимира Борисовича с юбилеем!