Рубрику ведёт доктор философских наук Валентин ТОЛСТЫХ
К читателям
 Многие наши читатели и авторы спрашивают, могут ли они принять участие в обсуждении. Разумеется, могут. Хотим лишь напомнить: мы не обсуждаем саму книгу «Вехи», вышедшую в 1909 году. Мы говорим о современности.
Многие наши читатели и авторы спрашивают, могут ли они принять участие в обсуждении. Разумеется, могут. Хотим лишь напомнить: мы не обсуждаем саму книгу «Вехи», вышедшую в 1909 году. Мы говорим о современности.
Пытаясь понять, почему «Вехи» не утратили свою злободневность до сих пор.
Какие проблемы, поднятые «веховцами», дожили до наших времён и почему.
О каких вопросах писали бы сегодня авторы знаменитого сборника.
Каким бы они увидели современное российское общество.
Свои отклики шлите по адресу serkov@lgz.ru
«Веховская» методология в борьбе с советским строем
Несмотря на свою скандальную спорность, «Вехи» не забылись. В памятные 80–90-е годы ХХ века крушения СССР книга вернулась в дискуссии о будущем России. Она вновь оказалась нужна для бурной политической борьбы, давая правым столь необходимую им идеологическую опору.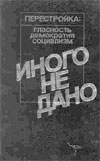 На фоне интеллектуальных неудачников, стремящихся в те годы увлечь за собой массы, авторы «Вех» выглядели чуть ли не гигантами. Их мысль оказалась чрезвычайно востребованной. И очень своевременной.
На фоне интеллектуальных неудачников, стремящихся в те годы увлечь за собой массы, авторы «Вех» выглядели чуть ли не гигантами. Их мысль оказалась чрезвычайно востребованной. И очень своевременной.
В стране тогда сложилось положение, которое следовало бы назвать безмыслием. Марксизм умирал в высоких кабинетах Центральной площади. В вузах, на страницах газет он сводился к бесконечно повторявшимся лозунгам, к трафаретам, из которых давно ушла живая мысль. Сторонники советского строя были лишены свободы в поиске аргументов, которые могли бы противопоставить оживившимся противникам советской власти.
Собственных мыслей не было и у правых, но была гибкость, сочетавшаяся с готовностью примерить на себя любую одёжку даже с чужого плеча. Трудно забыть, что на первых порах они заявляли о себе как о борцах слева против застывших в косности «правых» коммунистов.
Прошло какое-то время, и вдруг вчерашние левые признались, что они правые. В тумане умело создаваемой лжи они не переставали расширять влияние и завоёвывать всё новые позиции. На арену политической жизни вырывались социальный снобизм, алчный эгоизм, грубый национализм и окутанная туманом лжи и умолчаний перспектива, где ещё робко и зыбко проступали очертания капитализма. Вот тут-то «Вехи» пережили второе рождение. При этом их восторженные апологеты упускали из виду предупреждение, сделанное лидером партии кадетов, историком и выдающимся политическим деятелем П.Н. Милюковым. Он писал: «…я думаю, что семена, которые бросают авторы «Вех» на чересчур, к несчастью, восприимчивую почву, суть ядовитые семена, и дело, которое они делают, независимо, конечно, от их собственных намерений, опасное и вредное дело».
Вот тут-то «Вехи» пережили второе рождение. При этом их восторженные апологеты упускали из виду предупреждение, сделанное лидером партии кадетов, историком и выдающимся политическим деятелем П.Н. Милюковым. Он писал: «…я думаю, что семена, которые бросают авторы «Вех» на чересчур, к несчастью, восприимчивую почву, суть ядовитые семена, и дело, которое они делают, независимо, конечно, от их собственных намерений, опасное и вредное дело».
Справедливость этого предупреждения быстро подтвердилась.
«Вехи» учили действовать агрессивно и напористо, выдвигая свою точку зрения настойчиво и без какого-либо интеллигентничания. Первый крупный сборник, в котором новые правые, ещё называвшие себя левыми демократами, более или менее чётко обозначили свои позиции, вышел в свет в 1988 г. Он назывался: «Иного не дано». Точка. Надо быть решительными – отступать, мол, некуда. Альтернативы нет, что было далеко не первой большой неправдой.
Тогда-то впервые после 1909 года и сыграл свою роль тщательно разработанный авторами «Вех» метод коллективного портрета, полностью стиравший черты индивидуальной личности и тем самым радикально облегчавший неправедное судилище. В советские годы этот способ расправы над «классовым врагом» был подхвачен властью и широко ею использовался. Были разработаны детальные портреты кулака, нэпмана, технического специалиста-«вредителя» и т.д. От этих «семейных фотографий» власть не требовала правдивости или точности, как не требовались в своё время эти качества и от «портретистов» «Вех».
Одним из главных мифов того времени был миф о ведущей роли в стране рабочего класса. Поэтому первый сильный удар наносился именно в его сторону. Использовался приём, применённый авторами «Вех» при «разоблачении» интеллигенции. Но на этот раз появляется «семейная фотография» рабочего класса. Отношение к нему, мягко говоря, было настороженное, часто резко критическое. Подчёркивалось, что в его составе немало людей с низким образованием, малой квалификацией, ограниченным социально-политическим кругозором, сосредоточенных на собственных интересах. Утверждалось, что основная масса рабочих ещё глубоко не усвоила суть концепции перестройки. Такой класс никак не мог занимать в современном обществе ведущего положения. Читателя подводили именно к этому выводу.
В том же сборнике обращала на себя внимание статья с интригующим заголовком «Возобновление истории». Главная мысль автора: в течение семидесяти лет у страны не было истории и только сейчас она-де в неё возвращалась. Раньше же она, получается, была неким фантомом вне мировой истории?
Эта идея станет чрезвычайно популярной в демократических кругах. Её активно развивали в утверждениях, что Россию надо наконец вернуть в русло мировой цивилизации, что разрыв с мировой цивилизацией отбросил Россию на задворки истории. Россию рисовали чуть ли не полудикой страной, которую может спасти только демократия. Всуе трепалось имя Чаадаева. Всё это говорилось о стране с богатейшей своеобразной историей, о государстве, шагнувшем за годы советской власти от сохи к ядерной энергетике и этими достижениями вторично потрясшем мир.
Впрочем, в те бурные годы история стремительно переписывалась. Невозможно перечислить все материалы, в которых несчастный мальчик Павлик Морозов изображался гадким предателем, погибший на амбразуре немецкого дота Матросов изображался уголовником из штрафбата. Рука не поднимется пересказать то, что писалось о повешенной фашистами Зое Космодемьянской и многих других героях великой истории, которой будто бы и не было.
Но свято место пусто не бывает. В апреле 1997 г. «Новая газета» не без изумления отмечала: «Большевиков быстро приравняли к уголовникам… Параллельно с этим множество людей, числившихся ранее по разряду преступников («теневики», фарцовщики, власовцы, советские шпионы, сбежавшие за границу, и прочие), были названы кто самым предприимчивым, кто славным борцом за белую идею, кто смельчаком, который, рискуя жизнью, вырвался из тоталитарного плена».
В то смутное время вообще можно было услышать более чем странные утверждения. Если в годы советской власти, может быть, слишком некритично восхвалялся народ, то теперь интеллигенции приходилось слышать и читать заявления прямо противоположного порядка. Например, на страницах сборника «Осмыслить культ Сталина» словно походя назвали Советский Союз «империей смерти». Таких безумных оскорблений, продиктованных слепой ненавистью к своей родине, не позволяли себе даже оголтелые враги Советского Союза в Соединённых Штатах.
Подобные публицисты обнаружили в советском обществе «тоталитарные личности», в своей совокупности очевидно образующие тоталитарную массу. Следовало такое заключение: «В отличие от инфантильного сознания, которое постепено выходит на реальность и потому со временем становится взрослым, тоталитарное сознание с реальностью не связано вовсе и, следовательно, не несёт внутри себя возможности к изменению».
Ясно, что народ, страдающий этим типом общественного сознания, просто обречён вечно витать где-то в воздухе, вне связи с действительностью. В сущности, он не способен мыслить, не готов к внутреннему обновлению. Можно ли от него ждать каких-нибудь прорывов в будущее? Конечно же, нет.
Стоит, конечно, отметить, что сами учителя этих горячих перьев, некогда писавшие для «Вех», никогда ничего столь же вздорного не утверждали, поскольку жили в реальном мире, среди реальных людей. А вот их последователи были просто ослеплены своими теоретическими конструкциями, в некотором смысле пали жертвами ненависти к России и её народу. Но знаменательно, что они не отказались от затеи возглавить демократическую мысль нашей страны, хотя с подобными идеями могли трезво рассчитывать только на взаимную неприязнь со стороны российского избирателя.
Справедливость требует признать, что некоторые авторы «Вех», хотя и не предвидели возможность подобных теоретических блужданий, отметили среди интеллигентов черту, которая, развившись и окрепнув, стала своего рода проклятием русских демократов в годы перестройки и в последующие времена. Наиболее чётко она обозначена в статье С.Н. Булгакова «Героизм и подвижничество». Булгаков справедливо подметил, что «в своём отношении к народу, служение которому своею задачею ставит интеллигенция, она постоянно и неизбежно колеблется между двумя крайностями – народопоклонничества и духовного аристократизма». Развивая свою мысль о «духовном аристократизме» интеллигенции, автор статьи утверждал, что ей свойственно «высокомерное отношение к народу как к объекту спасительного воздействия, как к несовершеннолетнему, нуждающемуся в няньке для воспитания «сознательности», непросвещённому в интеллигентском смысле слова».
Здесь вспоминается пророческое предсказание-предупреждение ещё одного автора сборника – М.О. Гершензона. По его мнению, «каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, – бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами ещё ограждает нас от ярости народной».
Похоже, мысль Гершензона прочно вошла в сознание «элит» уже нашего времени.
А ведь это было заявление довольно-таки неожиданное для интеллигента. Впрочем, в годы перестройки и постсоветские годы оно начало восприниматься иначе. Социальный снобизм, как точнее начали называть в то время «духовный аристократизм», стал широко распространённой чертой «новых русских», которые в те годы не только не боялись противопоставлять себя остальному народу, а делали это буквально на каждом шагу. Что сегодня стало явлением повальным.
Так называемые элиты либо не понимают, что тем самым перечёркивают свои притязания на демократизм, либо им это безразлично. В любом случае в народной массе слова «демократ» и «демократия» превратились в ярлыки большой лжи, мощными потоками исходившей из всех «демократических» средств массовой информации.
Эти потоки топили не только идеалы подлинной демократии. Жестокому удару подвергались и традиционные этические нормы. Алчность вытесняла традиционное для русского народа презрительное отношение к накопительству. Пышным цветом расцвели коррупция и взяточничество. Причём иные лидеры молодой российской демократии, следуя примеру гоголевского городничего, призывали чиновников, если им недостаёт деньжат на достойную жизнь, брать взятки. Свои призывы они не стесняясь публиковали. В нравы входило презрение к человеческой жизни, убийства. В крупных городах действовали десятки хорошо вооружённых банд.
Так называемая бизнес-элита уже хорошо знала, что наступает её время, время капитализма. Народ, однако, этого ещё даже не подозревал, потому что в газетно-телевизионной шумихе никто из пропагандистов демократии ещё не говорил о том, что внедрение капиталистических порядков уже предрешено. Продолжал стоять гам о социализме с человеческим лицом, об ускорении развития в случае введения частной собственности на средства производства, поскольку частник-де значительно более хороший хозяйственник, чем государственный назначенец, которому, мол, всё равно, как идут дела.
В словесном тумане ещё боявшаяся этого названия буржуазия постепенно начинала вести себя с возрастающей наглостью. Интеллигенцию призывали воспользоваться открывающимися возможностями для своего обогащения. Культ денег решительно теснил «демократические» рассуждения об уважении к личности, которая всё больше, всё основательнее втаптывалась в грязь идущей кругом разрухи и гибла от случайных выстрелов при бандитских налётах. В русском обществе возникли две не существовавшие в Советском Союзе общественные группы – олигархов и бомжей.
И встаёт вопрос: родили ли крикливые ниспровергатели какие-либо новые идеи, способные действительно увлечь народ? Давние клятвы о динамичности капитализма как системы выглядят полной нелепостью на фоне разорения России и её фактического превращения в страну третьего мира. Сегодня по всему миру ширится разочарование в капитализме как движущей силе истории, в этой роли он явно исчерпал себя. Что же дальше? Стоит громкий шум, но из него не доносится сколько-нибудь значительных и крупных в историческом масштабе идей. Время безмыслия, увы, продолжается.
, доктор исторических наук
Но пока интеллигенция всю силу своей образованности употребляет на разложение народной веры, её защита с печальной неизбежностью всё больше принимает характер борьбы не только против интеллигенции, но и против просвещения...
«Вехи», 2009
