Поэт – человек, с которого много спросится. Потому что много дано. Всё ли взято из того, что дано, и всё ли использовано из того, что взято? Пять поэтов. Спросим у них – что дано каждому, и спросим с них, как с…
КАК С ЖЕНЫ И С ОРФЕЯ
Лирическая героиня Инны Кабыш как минимум семилика. Она и Гражданин (именно так, с большой буквы и с мужественным окончанием, а не «гражданка» из милицейского лексикона). И Женщина (любящая, возлюбленная, любовница, покинутая, ушедшая, борющаяся с бытом). И Ребёнок (существо играющее, ещё бесполое). Дочь (ребёнок, уже «набирающий» пол, осознающий себя относительно женщины – матери, бабушки, мачехи, злой тёти – и мужчины – отца, мальчика-друга, взрослого, недоступного возлюбленного). Мать. Учитель, учащий не литературе, а – любить (на примерах из литературы). И Поэт, конечно.
Все семеро говорят одновременно, спорят меж собой или соглашаются, но каждый (ая) со своей точки зрения.
«Русская жизнь насквозь литературна» – это не только первая строка стихотворения, в котором Поэт рассуждает о судьбе России, но и конспект урока, составленный Учителем.
Но Учитель рождается из страдания Женщины: «А когда ты ушёл, то не то чтобы в небе тучи – / неба вовсе не стало. / Зато на земле путей! – / можно в хосписе быть сиделкою. Или круче: / в монастырь пойти. Или в школу – учить детей».
«Ты не казни меня и не кости, / мой стих, за то, что я легла костьми / в мою страну, в мою любовь, в мой быт…» – сдаёт позиции Поэт перед Женщиной.
«Я знаю, что такое голос / и что спасает он один, / но голос я отдам за колос, / когда попросит хлеба сын», – падает Поэт под натиском Матери.
«Я с тобой забыла… стихи… Ухожу, потому что мне с тобою смертно», – побеждает Поэт Женщину.
«Любовь – это когда у тебя берут тебя», – отыгрывается Женщина.
«Как бы ни была одарена женщина, с неё спрашивают как с жены. Но с неё спрашивают и как с Орфея: дар обязывает. Она несёт два креста…» – примиряются Женщина и Поэт общей тяготой.
Гражданин – вырастает из Дочери: «Моим первым (и последним) цензором был отец: всему гражданственному в моих стихах я обязана ему».
«Назвать мгновение прекрасным, / «Постой!» – сказать – я не могла / ни перед зеркалом бесстрастным, / где красота моя цвела, // ни на любви мятежном ложе… Ни… над кровною строкой. // ни власть, ни молодость, ни сила… / И лишь с младенцем у груди / я день и ночь в слезах просила: / «Мгновение, не проходи!..» – торжествует Мать. И попирает Гражданина: «Господи, вот он, покой… / Речка, ребёнок, смородина… / Прочь от калитки моей, Родина!»
Когда Родина подводит, Женщину, Гражданина и Поэта объединяет общее разочарование: «Лучше уж слоняться в затрапезе и / делая мужчине бутерброд, / понимать, что это – жанр поэзии, / что мужчина – он и есть народ».
Ребёнок становится одновременно Матерью и Поэтом: «Когда отца хоронили, мне было шесть… «Не плачь, мама, я вырасту, рожу мальчика и назову его Александром…» Будучи шестилетней, я поняла, что если нельзя вернуть человека, можно повторить ИМЯ. Слово заполняет образовавшуюся брешь. Я потому и стихи стала писать: всё время сквозило из мироздания».
Поэзия Инны Кабыш – прекрасное доказательство тому, что далеко не всегда те, кто говорит «поэт» вместо «поэтесса», подразумевают, что «женское» – плохое, а «мужское» – хорошее. О чём бы у Кабыш ни было стихотворение – о любви, о быте, детстве, материнстве, – в каждом тема и проблема поднимаются от женского к общечеловеческому. «Женское» и «мужское» – мелкое. «Человеческое» – крупное. Кабыш – поэт.
«Первое чудо», «Добрая мачеха», «Детское воскресение», «Гори, гори, моя звезда», «На краю», «Голубятня», «Крысомор», «Гуляйполе» и др. – поэмы, похожие на прозу, и всё-таки не проза, потому что каждая – туго закрученная пружина метафоры. Проза – повествовательная проволока, пусть и запутанная и хитро сплетённая. Прыжки с витка на виток – признак поэзии.
Книжность? Не превалирует. Что собственная судьба, что мировая литература – и там, и там Инна Кабыш ориентируется одинаково хорошо. Ведь «русская жизнь…» – см. выше.
КАК С ТЮТЧЕВА И ФЕТА
Если Инна Кабыш и поэт, и учитель, и прочая, прочая, то Кирилл Ковальджи – Поэт-учитель. С 80-х он вёл поэтическую студию при «Юности» (и вырастил Ивана Жданова, Александра Ерёменко, Нину Искренко, Алексея Парщикова, Евгения Бунимовича, Валентина Резника, Марка Шатуновского, Свету Литвак и многих-многих других). Сейчас курирует молодёжный проект «Пролог».
Ковальджи остаётся Учителем и в стихах. И читателя учит, и словно имеет в виду, что на его стихи могут равняться молодые поэты, не позволяет себе подавать другим дурной пример: не рвёт на груди рубаху, не бранится, не сообщает интимных подробностей… Вразумляет, как обращаться с женщиной, да и с жизнью вообще: «Чтобы с ливнем беседовать, надо / самому быть таким, как гроза». Открывает тайны: «Слаще полночи зори вечерние; / ты срывай, но не с корнем, цветы. / Обнажённая на три четверти – / обнажённей любой наготы. // …лучше целого / лишь три четверти, / Половинчатость хуже нуля!» Убеждает: «Лучше слепо любить Дульсинею, / чем всю правду узнать о любви». Объясняет: «Делается счастье, как вино, / потому оно сначала бродит, / но в подвалах памяти доходит – / там, где одиноко и темно». Приводит примеры: «Притворялся… перед горестью – счастливым... / перед клеветою – стойким, / перед смертью – молодым… Притворялся – претворялся, / возвышался над собой». Предупреждает: «Не два края, куда направлены / указатели – Правда и Ложь: / Зло к Добру поперёк приставлено, / словно к сердцу – нож…» Иронизирует: «Поверил он, что Н2О – / вода, и пар, и лёд, / а удивлялся, что живёт / в трёх лицах Божество!» (Какова рифма, кстати!) Вопрошает: «Орлу двуглавому России / кто повелел веками выи / держать свернувшимися вбок – / косить на Запад и Восток?» Бывает суров: «Вы из времени, он – из вечности, – / через вас он навылет пройдёт…» И даже жесток: «Видел я, из какого прекрасного материала / делаются старухи». Рекомендует: «Длительное счастье неестественно… / Длительность относится к бессоннице, / бесконечность – это свойство горя, / но от быстротечности (у счастья) / и от бесконечности (у горя) / выпишет поэзия рецепт!» Проповедует: «Хорошо рассмотри котёночка, / погладь его, поиграй / и попробуй скажи: / «Всё это химия… Бога нет!» Втолковывает: «– Почему Иуда предал Христа?../ – Потому, чтоб не предал ты!» А такие лекции услышать можно только от профессора поэтической и жизненной наук: «По-русски / мужчина рифмуется запросто, / наверное, он – / не слишком уж верная доля любви, / то есть он – иногда молодчина, / иногда дурачина, личина, добивается чина, / а женщина – исключительность в слове самом! / Дальше всех от неё звуковые подобия / вроде военщины, деревенщины… / Ну а девушка – и подавно / рифмованию не поддаётся…»
Свойственна стихам Ковальджи здоровая дидактика. В стихах он в пиджаке и галстуке, как и на обложке. Хорошо это или плохо? Это – трудно. Это сложно поэту, как человеку с температурой под сорок вести себя комильфо на светском рауте. (А поэт – это и есть человек с высокой температурой, только не тела, а души.) Выбран трудный, а потому и в высшей степени достойный путь. Золотая середина, о которой сам поэт сказал немного иначе: «Поэзия вращается в сфере, где один полюс – Исповедь, другой – Музыка. Ударишься в одну крайность – уйдёшь от музыки, в другую – удалишься от слова. Поэзия жива, пока летает между полюсами».
И, подводя предварительные итоги, Кирилл Ковальджи может заслуженно гордиться, что остаётся верен себе – и в хорошем обществе:
Я жил не как поэт:
Ни собственной персоной,
Ни удалью бессонной
Не удивил я свет.
Я жил не как поэт,
Не пил, врагам на зависть
Не соблазнял красавиц,
Не шёл под пистолет.
Я жил не как поэт,
Искусства не улучшил,
Служил всю жизнь, как Тютчев,
Состарился, как Фет…
КАК ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Для книги, выпущенной к 60-летию автора, он сам отобрал шестьдесят лучших стихотворений последних трёх лет. Невозможно не заметить, что лучшее для Игоря Иртеньева – гражданское, точнее, антигражданское. Много стихотворений посвящено России, русскому народу, текущей политике. Много аллюзий к русской классике. Всё – с горькой усмешкой, за которой – настоящая боль. И какое неблагодарное занятие писать на такие – святые – темы в юмористическом жанре! Я имею в виду вот это, например, стихотворение: «Вот вы говорите – порядок. А нужен ли он? / В порядке вещей ли спасенье страны этой вещей? / Закон, говорите, способен зажать её в клещи? / Наверное, мог бы, да только не писан закон // Её населению и соответственно мне, / Поскольку душою являюсь его, как известно, / И в пропасть скользя со страной этой самой совместно, / Уже не успею в другой я родиться стране». Или это: «Бардаком именуется тот порядок. // В нём, я понял, и есть наш главный устой, / Вечно быть ему на Руси святой…» Или – это: «Так спрячь аршин подальше свой, / Засунь поглубже свой критерий, / Живи себе, пока живой, / И верь и верь и верь и верь и…» Не у всех есть чувство юмора, а у кого есть – так оно, как вкусы, у всех разное. Не все заметят боль, кто-то скажет: «издевательство, зубоскальство». И будет тоже прав. Впрочем, это издержки стиля. «Юмор – серьёзное под маской смешного», – открывает Америку в предисловии Пётр Вайль. Но что «серьёзное» – любовь, ненависть, отторжение? Если мнение читателя на этот счёт не совпало с чувством автора, автор-юморист читателю ничего не докажет, непринятый юмор – оружие, которое оборачивается против автора. Юмористы – смелые люди. Настоящий юмор всегда социален, в этом и сила его, и слабость. Так по-новому он преломляет пушкинско-есенинскую философему, но в то же время и сильно упрощает её:
Жить да жить, несясь сквозь годы
На каком-нибудь коне,
Но гражданские свободы
Не дают покоя мне.
Оттого-то до рассвета
Не смыкаю карих глаз,
И не зря меня за это
Ненавидит средний класс.
Помимо социально-политических тем у Иртеньева есть и просто удачное житейское: «Недавно встретил Новый год, / Но не узнал. Видать, старею…» Но кое-что кажется пригодным только для внутреннего пользования, в узком дружеском кругу. Например, стихотворение «Над страной нависли тучи хмуро» пронизано абсцентной лексикой. Может, оно и смешно, но один только хулиганский задор не делает стихотворение хорошим. Выразить чувства ярко и красноречиво с помощью мата сможет и сапожник, без мата – задача художника.
КАК С МЫСЛЯЩЕГО ТРОСТНИКА
Дмитрий Бобышев – поэт с узнаваемым дыханием и шагом стиха, с рисунком прихотливым, но внутренне закономерным, как вырез и узор крыльев бабочки: «Или во взмахе / молний, в бреду ли / Сафо с Ахматовой / любовь придумали?»
Ленинградский шестидесятник, осенённый благословением Анны Андреевны, друживший с Рейном, Найманом и Бродским, много лет живёт и преподаёт в Америке, и половина его книг вышла за рубежом. Бобышев вовремя оторвался от «ленинградской школы», от шестидесятничества, от Родины, от возможной славы – всё это цена оригинальности, нарочитой особенности, «акцента» его стихов. Издержки – некоторая порой старомодность, серебряновечная манерность. Иногда красота плетения словес застит смысл строки, а иногда смысл гол, не прикрыт одеянием метафоры: «Жизнь – это, может быть, миг. Он огромен, / И ничего как бы не было, кроме / Длящегося через годы «сейчас».
Бобышев мастерски использует диалектизмы и архаизмы, иногда напоминая Клюева: «За последнюю страницу / Кто заглянет в пустоту, / На конце споткнув зегзицу? – / Ветер лищет книгу ту». Но там, где своевольно сочетает архаизмы, высокий штиль и новейшую лексику, не напоминает никого.
Дмитрий Бобышев чутко отзывается на вызовы реальности, посвящая стихи новому тысячелетию, Интернету, обретению останков царской семьи, урагану «Эль Ниньо», гибели «Колумбии» и принцессы Дианы, самоубийству членов секты «Небесные Врата». И при этом остаётся очень далёк от публицистичности, погружает проблемы современности в бездну мифологии, литературы, даже шире – филологии, истории, собственных фантазий. Как в «Петербургских небожителях»:
Где, например, тот смертный,
как Патрокл,
Кто жил пером,
кто даже душу впрок
в заветной лире прятал,
сочинитель?
Вон у Сатурна кровь на бороде,
опять он жрал детей.
Теперь ищите…
Теперь не спрашивайте где.
Страна-Сатурн
с раззявленным болотом…
Поэт здесь – не только часть русской истории, но соотнесён и с литературным героем – из «Илиады», и с мифологическим персонажем, и, хотя и не назван, остаётся собой благодаря аллюзии.
Ураганом Эль Ниньо порождён образ апокалиптического конца света, тут же возникает ассоциация с авангардом начала ХХ века, и Кручёных оказывается связан с языком пророчеств протопопа Аввакума, и сам Бобышев взирает на эту картину не без юмора:
лопнет и распустится экватор,
сбой, болтанку даст земная ось,
облака нашлёпнутся, как вата
влажная, на всё, куда пришлось.
И лучом не мнимо и не мимо:
прямо из – озонных дыр бул щил –
убещуром в глаз грозит эль ниньо,
движитель тайновраждебных сил.
Засухи с потопами сомкнутся;
глад и мор, и трус, и кряхт, и верть,
соль и пыль с кровососущим гнусом, –
то-то бы снаружи посмотреть!
Многие ли ненаивные поэты ХХI века рискнут изобразить лебедей в пруду? И так классично, не боясь ни старомодности, ни высокопарности. И – избежав их в силу отсутствия страха перед ними: «…Клювы в самый миг сближенья / Замыкают сердца знак / Обоюдный. Неужели / Счастье – вечно? Пусть бы так! // Так, но гордых горл излуки / Лирой стали, Лаллой Рук, / И из струн исторгся звук: / – Счастью – миг, а век – разлуке…»
Шахидка «словно строка из Искренко, / грозит разорваться» – это не о политике, а о поэзии. Родоначальник русского конструктивизма приобретает у Бобышева новую, сущностную фамилию Летатлин. Белый пион – «облака свежие ломти». Сняли изваяние ангела со шпиля – «обезангелел простор», и – слышится – «обнаглел», лишённый благодати. «Это баловство со словом – поэзия, / Млекопитающая, как грудь». Бобышев вообще не боится давать глобальные определения, умудряясь не выходя из культурного контекста, и оставаться собой, создавая свой контекст, осмысливая каждое своё чувствование и соотнося его множеством тончайших паутинок с культурной ноосферой:
Звёзды – это мысли Бога
обо всём, о нас:
…И, мою смиряя малость,
в душу луч проник,
чтобы гнулся, не ломаясь,
мыслящий тростник.
КАК С ОЖИДАЮЩЕГО ЧУДА…
Проще всего, говоря о творчестве неизвестного начинающего поэта, заявить то, что первое приходит в голову: с такими стихами можно пройти творческий конкурс в Литературном институте, и защитить диплом можно, и для первой книжки они подойдут. Но говорить о Дмитрии Гасине как о поэте, то есть как о явлении литературы, сложно. Много детского – оно всегда умиляет свежестью, но это берёзовый сок, а не бензин, на нём далеко не уедешь. Мало сверхопыта. Обычный, житейский, есть, он и отражён: любовь, разлука, дружба, курица жарится, дождь пошёл, осень наступила… И всё-таки попробую в обычном дебюте найти зёрна или ростки будущего События. Лирический герой снял квартиру: «Девятый этаж – видны Текстили, Кузьминки». Пригласил любимую девушку: «И вот час ночи. Сижу на кухне. А ты уснула. / Листаю книжку. Чешу лодыжку. О ножку стула». Наступила жизненная гармония: «В ожидании чуда… Я проснусь, я открою глаза, я увижу / Яркий свет за окном над пейзажем пустым, привычным». Но тут в привычный мир вторгается необыкновенное: «Посмотри календарь: под числом, под восходом, ниже – / Там написано: «Счастье» почерком частым, птичьим». Поэзия и должна быть такой, отражающей сверхопыт, не о том, что есть и очевидно, а о том, что сквозит, мерещится, – о чуде, словом. Вот с любимой поссорились. «Эта едкая меткость обид / И развязность прерывистой речи…» С кем не бывало! Но в конце стихотворения: «Ночью плачет вода из-под крана». Простенько, а – поэзия. То ли вода сопереживает лирическому герою, то ли лирический герой сквозь свои страдания находит силы сопереживать – стихии, пусть и в таком домашнем выражении. «В кипящем масле жарил курицу, / Точнее, две её ноги» – кажется, бытовая зарисовка. А вдруг оказывается, что – стихи о взаимоотношениях с иным миром: «И только тень её безногая / Смотрела скорбно на меня!..» – просто встреча Одиссея и Ельпенора у входа в Аид. Наступила зима. «Ты только посмотри, какая вьюга!.. Тоска и время в снежной круговерти». Конечно, необходимо глобализовать свои погодные переживания, а где «круговерть», там и рифма «смерть»… Но оная появляется в строках, достойных поэзии, и жаль, что первая половина стихотворения так привычно обычна, нетерпеливый читатель может не добежать взглядом до интересного: «Свяжи нам тёплый свитер на двоих: / Мы спрячемся от старости и смерти / И спрячем в нём родителей своих, / И лес, и речку – как письмо в конверте. / И дом. И всех. Ну разве бросишь их?» Тема продолжается в другом стихотворении, по-моему, лучшем в книге. Воспоминание о детстве поднимается до образа рая. Здесь есть что увидеть, есть что прочувствовать читателю и есть над чем подумать:
…Мы соберёмся все
в резной беседке
И радиолу выставим в окно.
Найдётся место дворнику, соседке,
И с музыкой в саду не так темно.
Ночь дышит
влажной свежестью в затылок,
Шаги и смех несутся со двора,
Огонь блестит
на горлышках бутылок,
И скатерть от росы совсем мокра…
Отец войдёт,
обнимет крепко-крепко,
До хруста сладкого, и скажет:
«Здравствуй, сын!»
И счастье будет цельное,
как репка,
А не по долькам,
словно апельсин».
Если Дмитрий Гасин пишет теперь так, то это уже не зерно, а побег, поэтическая отрасль, которую из литературы голыми руками не вырвешь.

Невеста без места. – М.: Время, 2008. – 480 с.: ил. – (Поэтическая библиотека).

Избранная лирика. – М.: Время, 2007. – 496 с.: ил. – (Поэтическая библиотека).
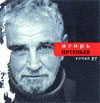
Точка ру. – М.: Время, 2007. – 112 с. – (Поэтическая библиотека).

Ода воздухоплаванию. – М.: Время, 2007. – 104 с. – (Поэтическая библиотека).

Аптечка. – М.: Время, 2006. – 64 с. – (Поэтическая библиотека).

 Надежда ГОРЛОВА
Надежда ГОРЛОВА