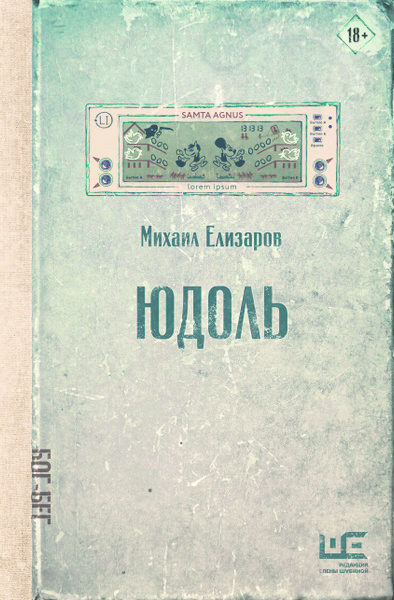
Антон Осанов
Михаил Елизаров. Юдоль. – М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2025. – 480 с. – 7000 экз. – (Читальня Михаила Елизарова).
Сказка начинается сразу, без зачина, долгим нашёптыванием в настоящем времени, из которого постепенно вырисовывается даже не сама история, а то, кто и кому её рассказывает. Возжелавший продать душу Сатане счетовод Сапогов – это трагикомичный колдун, но повествующее о нём существо вовсе не так нелепо. Оно способно на страшное, оно знает, как выглядит кремационный прах.
В «Юдоли» Михаил Елизаров откатился до настроек своей ранней прозы. Как и в «Мультиках», мистическое вновь прорвалось из советской повседневности, прямо из перестройки, когда история столь глубоко рассекла бытие, что оттуда одной рукой можно было доставать сразу и проституток, и ведьмаков. Возврат писателя к истокам, как правило, хорошо воспринимают читатели и разочарованно – критики. Новый роман показывает классического Елизарова, ровно то, чего от него ждут поклонники, и то, чем он не может удовлетворить инстанцию – философскую некрочастушку. С её первыми куплетами настораживаешься: не просунут ли тебе то, чем любила шутить «Земля»?
В кладбищенском романе Елизарова чертовщины толком не было. Инфернальное содержалось в интеллектуалах-могильщиках из Москвы, хотя по-настоящему пугали лишь их софизмы. Роман разрывался столь неловкой и притом высокопарной мыслью, что от неё хотелось отнести себя таксидермисту. В «Юдоли» присутствуют такие же несуразные вставки, но, когда по романному балагану бродят «опущенные боги», а из причинного места вылезает «глист-сионист», довольно странно критиковать примитивную гностическую космогонию. Елизаров всё время пытается усложнить кантианскую мысль о ноуменах и феноменах, но ни объясняющие их метафоры, ни их сверхъестественное прочтение не могут сделать философское измерение романа хоть чем-то отличным от 2D-игры: наш мир не более чем проекция не познаваемого разумом Божьего мира. Иллюстрирует этот принцип вынесенная на обложку «Электроника ИМ-02». И если бы всё оставалось ярмарочной философией, «Юдоль» вполне успешно напоминала бы фокусника, который жонглирует «онтическими ядрами». Здесь есть самопародия, но куда сильнее Елизаров увлечён дискурсом, который композиционно уничтожает его тексты. Вторая, «философская» половина «Юдоли» читается заметно хуже,
а главы VIII–IX совсем перегружены, даже невыносимы. Это просто оккультная схоластика, формальный спор о терминах и понятиях, не имеющий отношения ни к знанию, ни к сюжету. Произведения взрослого уже писателя по-прежнему выглядят подростковыми, нахватано держащими экзамен перед кем-то невидимым. Посредственный философский гон, без сомнения, худшая черта елизаровской прозы.
Зато автор по-прежнему силён в юморе. Он смелый и ксенофобский, под стать песенному материалу. Ядерная война не так уж и плоха, ведь после неё кто-нибудь да выживет, например «цыгане и киргизы». Кукольный туркменский мультик «Яртыгулак и лентяи» явно свидетельствует о том, что мир должен провалиться в тартарары. Филя из «Спокойной ночи, малыши!» принимает ислам и становится Фарухом, из-за чего начинается конфликт с Хрюшей, но страна-то у нас «многоконфессиональная», так что, наставляет ведущая, давайте жить дружно. В лучших моментах смешон Сапогов, хотя юмор скорее сопровождает, чем направляет роман, похожий на шутливую перепевку чужого музыкального творчества.
Вторичность используемого Елизаровым материала, в общем-то, даже не постмодернична. Она не приводит к игровой цитатности или к коллажированию. Нет в ней и разрушительности. Елизаров случайным образом подбирает утильсырьё для какой-то своей печальной архаики. В ход идёт ни к селу ни к городу похищенный колдунами мем «Кто мы? Чего мы хотим?» или зашифрованный под именем Мити Митяева безумный харьковский художник Олег Митасов. Кореец Кимыч зачем-то исполняет роль Цоя, а всякий, кто слушал главного оккультного барда вся Руси Михаила Круга, может опознать в Клавке Половинке легендарную сводницу Клавку Помидориху, со слов которой был записан «Владимирский централ».
Рассказность помогает избежать многочисленных натяжек, когда герои магическим образом оказываются в нужном месте в нужное время. Но постоянство сказочной морфологии не соблюдено: нет дарителя, нет ложного героя, очень слабо, на одной ниточке выражены царевна (Макаровна) и отправитель (Божье Ничто). Огрубляя, в «Юдоли» есть лишь толпа волшебных помощников, которые вертятся вокруг мальчика Кости и колдуна Сапогова. Из тридцати одной сказочной акции «Юдоль» гасит как минимум дюжину, из-за чего нарушается цепь потери и приобретения ценностей. Сказочный канон смотрится так же искусственно, как и превращение вывески «МОЛОКО» в «МОЛОХ» посредством погасших «О» и боковой части «неоновых трубок буквы «к». Как это вообще? Элементы сюжета плохо прилегают друг к другу, зазоры можно расковырять пальцем, хотя осквернять безымянный порой брезгливо:
Проще сказать, старых богов «опустили» и отправили бытовать в петушиный метафизический угол, где они по сей день и влачат жалкое существование.
Что на это хочется ответить Елизарову?
Тивит никогда ЗЕМЛЁЙ не был и никогда быть не может!
Языку вроде бы придана та бодрость, с которой принято рассуждать об эгрегорах, но лёгкий, с бесинкой, стиль запыхается. Когда из прачечной тянет «запахом вскипевшей на утюге слюны», а занавеска касается как «удивительной доброты женщина» – это неожиданно и прекрасно, но когда рядом же скребут «загаженными подошвами по стальной полосе оградки газона» или «разлапистые кусты пляшут танец уродливых лицедеев» – в этом чувствуется юношеская избыточность, даже нагромождённость. Елизаров будто откатился не только к тематическим, но и к ранним стилистическим настройкам, к «Ногтям» и натуралистичным побоищам «Библиотекаря». В общем, «холодильный саркофаг мясного отдела хранит студенистый отрез зельца».
Вдобавок Елизарова не очень заботит действие. Несмотря на растянутость, история о кончине мира в Юдоли событийно бедна и весьма скоротечна. Это лишь задник для другого представления.
«Юдоль» – это роман о хрупкости памяти, об её истираемости, крайне сентиментальный текст о том, что на фоне Апокалипсиса спастись можно лишь в личных воспоминаниях. Увы, личное всегда больше волнует носителя, чем наблюдателя, и при всей трогательности тайных летних дворов, куда предстоит отправиться героям, эту ностальгию не получается разделить из-за не выполненных текстом художественных обязательств. Михаил Елизаров будто забыл о читателе, оставшись наедине с собой. По сути, в «Юдоли» он обозначает своё метафизическое отношение к происходящему. Бог и Люцифер в романе – это питающиеся душами запредельные жаждущие желудки. Нет особой разницы, кому из них служить, ибо в конце твоё естество опустят в сок, но можно выбрать третью, ничейную сторону, Смерть, стать несъедобным для сильных мира сего. О чём в финале докладывает рассказчик, оказавшийся, так сказать, вполне принципиальным:
Без разницы, какими опилками набивать полиграфический макет этого мира.
Это слишком хорошо накладывается как на конфликт Запада и России, так и на независимую позицию самого Елизарова, которая после 2022 года выглядит куда отстранённее и лаконичнее, нежели после 2014‑го. Писатель будто и вправду сделал себя несъедобным: выпускает песни, которые подначивают тех, кто всюду видит дискредитацию, но в то же время безусловно желает стране победы. Вопреки маргинальному реноме, Михаила Елизарова вполне можно назвать центристом, который выдерживает удаление от желающих перетянуть его крайностей. «Юдоль» уже попытались истолковать как личное разочарование Елизарова, но этот печальный роман является не политическим, а… человеческим завещанием. В нём Елизаров прощается с ретроспективой советского детства, вспоминает харьковских юродивых и дурачков, незлобно просмеивает оккультные кружки, машет рукой Союзу и вновь приходит к теме неразделённой любви, которая на фоне истории Сапогова кажется ещё более горькой. Лиричность финала совсем как тот елизаровский подорожник, листья которого похожи на отдающие ладоши – протянутый читателю, он сорван с важной писательской ранки.
Ведь Юдоль вовсе не «разомкнутый уроборос Литургической Памяти», не «аннигиляция Присутствия», не «мировая Порча, открепляющая Имена от Вещей» и даже не «вечная ночь».
Это просто скорбь от того, что всё понемногу заканчивается.
