Из книги миниатюр «Вечернее», Минск, «Мастацкая лiтаратура», 1994.
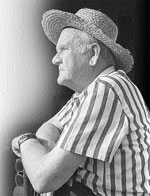 К памятнику (заросшему бурьяном), когда мы осматривали его, подошла старая бабка, уже на девятом десятке, в лапотках и серой, как песок, будто маскировочной, под вечную нищету, одежде.
К памятнику (заросшему бурьяном), когда мы осматривали его, подошла старая бабка, уже на девятом десятке, в лапотках и серой, как песок, будто маскировочной, под вечную нищету, одежде.
– Похороните меня здесь, возле этого памятника. Дочку зажигательной пулей убили, сыны на фронте погибли. Крепко мне жаль детей. Делала всё, пока могла, а теперь пала маком…
В деревне Крынки сухощавый, энергичный и толковый Микола Коцур, убежавший из плена из Полоцкого лагеря. Почти в сумерках застали мы его с запряжённым конём во дворе.
«…Молодица вытащила сундук в кусты и спрятала в этом сундуке детей. А они не усидели там, вылезли. И полицаи их постреляли.
Немцы идут по улице и сигаретки курят, а бьют людей полицейские, наши…»
Что это?
Вспомнилось.
Семья, да и деревня, что не знала в войну большой беды. В году этак сорок седьмом женщина зашивает сыну его школьную, офицерскую сумку и едва ли не весело говорит:
– Порвалась. Скорее бы опять какие-нибудь побежали!..
Партизанские семьи гибли меньше, потому что они, заслышав о приближении карателей, убегали в лес, а те, что надеялись, как «невинные», уцелеть, – гибли.
Чтобы спасти свои семьи от смерти, партизаны, пятьдесят человек, пришли из леса с оружием и сдались. Их постреляли, а семейники остались.
Первый такой случай. На Полотчине.
«Мы – из хомута». Так говорят о себе женщины, которые после войны сами впрягались в плуг.
Опять в архивах КГБ.
Деревня Верхи Ельского района. Лето 1942 года. Деды и бабки вынесли стол в конец деревни, с караваем и солью на рушнике встретили карателей, – чтобы этим, может быть, спасти себя и детей. Человек около ста. А каратели, по команде обер-лейтенанта (который теперь работает в западноберлинской полиции), прижали их полукругом к стене сарая, где их встретили, и – с расстояния трёх-четырёх метров! – покосили из автоматов и винтовок. Протокол говорит, что «вся стена была изрешечена». А потом все каратели – словечанская полиция, рядовые немцы и латыши, за исключением того обер-лейтенанта, – за руки, за ноги стащили трупы в сарай и подожгли.
В войну, когда был убит один командир партизанской разведки, в блокноте его – какая беспечность! – была прочитана полицией и фамилия моего знакомого, и тогда, и после войны деревенского учителя. Его арестовали, допрашивали с пытками, а потом погнали в Неметчину, «на работы».
Конвойный австрияк ещё на станции сказал ему:
– Вам, герр лерер, очень повезло – вас не расстреляли. А там, если к нам, в Австрию, Бог даст, попадёте, будет хорошо, люди у нас добрые. За вас просил герр шульинспектор. А фарер ваш – плохой человек.
Лерер, если кто не знает, это учитель, фарер – поп, который видимо, негодно выслуживался, а шульинспектор тут не просто инспектор по школам, а брат Якуба Коласа Михаил.
– Тоже кончил Несвижскую семинарию, только значительно позже, – рассказывал мой знакомый. – Националист был, как говорилось. Сейчас он в Америке. Не верит никак, что теперь в Миколаевщине можно жить. Об этом он писал племяннику, что филиалом музея руководит. «Пропаганда!» – писал, и всё тут. Потому что перед войной, при Польше, если кому-нибудь был нужен работник, наймичка или пастушок, то ехал этот человек в Миколаевщину, – там наверняка возьмёшь. Бедно жили, очень бедно… А про Купалу и Коласа он мне, Михаил Михайлович, самому говорил, что они там, в Советах, поют не своим голосом… А за меня, бандитского помощника, заступился. Благородство, достоинство человеческое были!..
Когда я в начале 1973 года для будущей книги «Я из огненной деревни…» работал в варшавском архиве «Института исследования гитлеровских преступлений», мне там (с доверием, на которое повлияло и моё участие в оборонительной войне тридцать девятого, и хорошее отношение ко мне польской литературной общественности) неофициально давали документы, полученные из американских архивов. Именно там было о том, как в плане «OST» Белоруссии назначалось быть превращённой в коксогызное поле, а белорусам – стать неграмотным рабочим быдлом. За это некоторыми соотечественниками и «бралось оружие», чёрно-серые шуцмановские недоноски, рабочая форма несчастных, оболваненных убийц своих же белорусских детей, женщин, беспомощной старости – и в деревнях, и в городах, и в лагерях смерти. Скорбя по тысячам минчан, уничтоженных в отместку за убийство Кубе, «объективными патриотами» не говорится, что эту страшную работу немцы проводили не одни, как не одни они начали своё «освобождение» Белоруссии зверским уничтожением евреев, а закончили ликвидацией Азарич, Тростенца, Колдычева…
Не помню, когда это было, да и, может, оно и не так важно, чтобы совсем точно про время, – хватает и того, что уже немало лет стоит в памяти беседа с Петром Панчем, вдвоём в поздневечернем гостиничном коридоре. В Москве, в гостинице, что называется одноимённо.
Петро Осипович сам начал эту беседу. На десятом этаже, где мы с ним остановились, возле пролёта, в который свалился Купала. От воспоминания об этом как раз и начал.
Втроём: Купала, Лыньков и он – старый, уважаемый рассказчик – выпили, помнится ясно, половину пол-литра, сколько было в бутылке. Захмеление, таким образом, исключается. Вышли в коридор, уже в комнате распрощавшись, и ещё постояли, поговорили. Купала присел, приткнулся бочком на скользком мраморном парапете. А тут проходила с подносом официантка – с пустым или с полным посудой, из комнаты или в комнату – уже ни Панч тогда, а я теперь, в восемьдесят восьмом году, из его рассказа не помню.
Иван Доминикович и в шестьдесят лет любил, говоря по-деревенски, зацепиться с молодыми женщинами. Вежливым, весёлым словом, со всей кавалерской тактичностью. Так говорил мне и Панч. А сам я слышал от тётки Влади гордое: «Мой Янка был европеец!..» Не выдержал он и тогда, на том зловещем парапете. То ли попытался чуть игриво: «Моя ты красавица!», то ли что-то подобное хотел сказать, сделать. А молодка – устало, с понятной нетерпеливостью, или тоже с вежливым кокетством – будто хотела отмахнуться или отшатнуться от уважаемого кавалера. Он шевельнулся тоже. Как и куда: к ней, от неё – в те секунды в памяти Панча не отложилось. Произошло одно – великий поэт, живой человек полетел в глубоко-каменный пролёт…
Официантка в тот же вечер исчезла.
Рассказано ещё и так, к тому, что уже скоро полвека говорится о Его преждевременной, трагической смерти.
Несколько свидетелей, немало версий, – как будто здесь что-то надо было замалчивать…
Перевод
