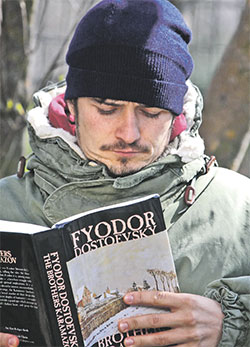
Для зарубежных издательств автор «Чевенгура» и древнегреческий философ – на одно лицо
Международный конгресс переводчиков проходит раз в два года. Наверное, чаще было бы трудно проводить столь пышное и сложное мероприятие. Вот бóльшая продолжительность пошла бы конгрессу на пользу: переводчики русской литературы съезжаются в Москву со всего мира, и слишком много интересных обсуждений происходит одновременно.
Возьмите Китай: какие у нас в советское время были связи! Какие у нас сейчас идут разговоры о российско-китайском партнёрстве! И ведь мы с Китаем – соседи! Но сегодня в Китае переводы с русского языка составляют меньше одного процента всей переводной литературы. Допустим, понятно, почему их гораздо меньше, чем переводов с английского или даже японского. Но ведь даже переводы с немецкого и французского имеют в среднем по пять процентов. А с русского – меньше одного процента! Почему так? Загадка. Быть может, дело в том, что в число переводов попадает и большой объём технической документации из этих стран, из России он гораздо меньше.
Правда в том, что о России европейцы, да и азиаты хотят знать её прошлое. Достоевский, Толстой, Чехов или Булгаков не нуждаются в поддержке – они издаются самостоятельно и, как выразился на конгрессе один переводчик, уже не принадлежат исключительно русской культуре, как Борхес не принадлежит исключительно латиноамериканской культуре. Толстой известен и интересен зарубежному издателю и читателю уже не только как писатель, но и как человек. А вот как продать современность?
Однако даже переводя Булгакова, переводчики за рубежом иногда позволяют себе вольности, у нас в России, к счастью, не принятые. Выбрасывают географические названия, исторические реалии – мол, иначе читателю будет слишком сложно. Сделать комментарии? Ну, у нас так не принято.
Опрощают даже Мандельштама, который имеет стойкую репутацию «трудного поэта». Предпослать книжке предисловие какого-нибудь известного человека, но оставить тексты без комментариев – обычное дело. А ведь Мандельштама в Европе переводят с 1924 года, пора бы и традиции появиться! Да и кто сегодня переводит Мандельштама? Вот, например, Паоло Руффилли – довольно известный поэт, но не знает русского языка. Ориентируется на подстрочник и аудиозаписи, главное для него – передать «музыкальность» стихов. Так, в строчке «Что ни казнь у него – то малина» появляется «земляника»…
«Мы, переводчики, постоянно обманываем читателя, потому что делаем вид, будто говорим на языке читателя, в то время как в голове у нас текст автора» – понять это рассуждение сложно, но можно, если вспомнить, что новые переводы русской классики за рубежом могут появляться каждую пятилетку. И хотя преподносится это под соусом заботы о читателе, вернее другое: издателям иногда проще оплатить новый перевод, чем заплатить роялти за уже имеющийся. Переводчики в Европе, как объясняли, например, унылые итальянцы, зарабатывают очень мало, если только они не французские переводчики, за спиной которых маячит мощный профсоюз.
Есть и другой фактор. Помню, как два года назад на конгрессе звучали жалобы: ах, русская литература такая проблемная, философская и скучная!.. А зачем современному читателю философия, да ещё новодельная? Если бы вы писали детективы… И вот в декабре этого года в США стартует серия «Русская библиотека», которая должна смягчить это ощущение сложности. Предполагается издавать Зощенко, Синявского, Сашу Соколова… Руководитель проекта Кристина Дунбар сказала прямо: «В США русская литература – это серьёзная литература, распространено мнение, что читать её нужно, но скучно. Я хочу, чтобы книги в серии смягчали это ощущение и чтобы наши читатели приобрели новое, более широкое представление о России». Что ж, поживём – увидим. Правду сказать, серия задумывается малотиражной.
А что французы? Они, как сказала переводчица, преподаватель Сорбонны Елена Орловская-Бальзамо, «знают, что существует русская литература». Это уже много, так как, например, скандинавскую литературу они знают только «в общем», но не по странам. И тем не менее даже такая крупная вещь, как «Пётр I» Алексея Толстого, была издана лишь однажды, в 1939 году, и с тех пор не переиздавалась. И о чём говорить, если в крупнейшем французском издательстве «Галлимар» сегодня выходит одна книга русской литературы в год!.. А когда во Франции перевели всю переписку Достоевского, в газете «Монд» не нашлось специалиста по Достоевскому, чтобы написать на неё рецензию.
Впрочем, есть и хорошее: Анн Кольдефи-Фокар запускает издание стотомной «Русской библиотеки» на французском языке. Это будет межиздательский проект – таким образом можно не связывать себя желанием издателей отдать предпочтение своим прежним переводам, а действительно выбирать лучший. Осуществляться он будет при поддержке российского Института перевода – французские же государственные организации сейчас предпочитают тратить деньги на культурные связи с Украиной. Это политика, верно.
Если в больших странах рулит политика, в маленьких – просто нет денег. В Греции перевод русской литературы держится на чистом энтузиазме отдельных подвижников – таких как Димитриос Триантафиллидис. На свои деньги он издаёт ежегодный журнал «Степь», читает бесплатные лекции серии «Русская панорама» в разных муниципалитетах Афин. Каждый номер журнала посвящён одному герою. В нынешнем году это Гумилёв.
В Греции любят Россию болезненной любовью бедного родственника. Во Франции, где традиционно сильна левацкая интеллигенция, заигрывают с украинцами. В США думают прежде всего о коммерческой выгоде. А есть ли общая тенденция?
Общая тенденция такова, что сами зарубежные издатели русского языка не знают и разобраться в русской литературе не могут. Какие-никакие специалисты есть только в самых крупных издательствах Франции и Германии (Германия – крупнейший «экспериментальный» рынок; переводы современной литературы прежде всего проходят обкатку здесь). А вот в Италии, когда переводчица Орнелла Дискаччати предложила издателю «Чевенгур» Андрея Платонова, тот ответил: «Зачем переводить Платона с русского, а не с греческого?»
И правда: зачем? Что, кроме русских денег, может усилить интерес к русской литературе, желание знать о России больше? Литературный агент Наталия Перова призналась, что не знает. Последний всплеск интереса был в перестройку. Но возможен и другой подход, который тоже прозвучал на конгрессе: опасность притягивает. Россия интересна, когда она опасна. Собственно, ведь и перестройка была интересна не личностью Горбачёва, а тем, что переформатировалось нечто опасное. Которое потом превратилось в безопасное и перестало быть интересным.
Есть и другое поветрие, общее, пожалуй, для всех стран. Писатели утратили свой статус учителей человечества. Они сами по себе уже не так интересны. Роман – это большая форма, он долго пишется, он сложен для продажи и прочтения… в конце концов, он требует серьёзного жизненного опыта. А где его взять? Об этом на встрече с переводчиками говорили писатели Алексей Варламов, Майя Кучерская и Канта Ибрагимов.
Майя Кучерская высказала мнение, что писатель вообще не должен откликаться на политические проблемы, а Канта Ибрагимов рассказал иностранцам, как повесил у себя в кабинете на видном месте портрет Путина, вручающего ему Государственную премию, и теперь у него всё хорошо.
Один из слушателей, Фалех Гаданфар из Ирака, попытался приободрить писателей: «Вам не кажется, что это общий цивилизационный сдвиг? Сейчас нигде нет великих писателей, как раньше. И у нас в арабском мире нет».
Возможно, это так, но политика из литературы не ушла. На месте распавшейся Югославии появилось множество государств, каждое из которых настаивает, что имеет собственный язык и старые переводы ему не годятся, потому что это переводы на сербский. В Румынии молдавский язык считают диалектом румынского. В Советском Союзе фактически выпестовали современный украинский литературный язык – и делалось это как раз обильными переводами на украинский.
Не свободна от политики и премия «Читай Россию», которую традиционно вручают под занавес конгресса. В этом году её получили отличные переводчики – с одной из них, создательницей Яснополянского семинара Сельмой Ансирой, в «Литературной газете» ещё три года назад было интервью. Но правда в том, что на выбор победителя влияет не только качество перевода, но и широта языковой аудитории. Это можно понять. Но хотелось бы, чтобы поощряя современную художественную литературу, Институт перевода поддерживал и нынешние документальные труды.
Необходимо помнить, что, как сказала на конгрессе одна умная женщина, «все издатели хотят грант на перевод, но не всем издателям они действительно нужны». И как бы то ни было, тот, кто платит, имеет право хотя бы заказывать музыку.
P.S. Конгресс организован Институтом перевода при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир ГРИГОРЬЕВ, заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям:
– Когда семь лет назад мы вместе с замечательнейшим литературоведом, крупным международным деятелем культуры, культурологом с большой буквы Екатериной Гениевой задумали возродить взаимоотношения между Россией и переводчиками, живущими в разных точках мира, поддержать их в интенциях донести великое русское слово на разных континентах, то первая мысль была собрать всех ныне живущих переводчиков, посмотреть, как живет школа перевода. Мы и предположить не могли, что это вызовет такой живой отклик… На прошлый конгресс Катя придумала девиз: «Литературный перевод как средство культурной дипломатии». Каждый год девизы менялись, но в этом году мы решили его сохранить в знак памяти об этом выдающемся человеке.

Димитриос Триантафиллидис, издатель:
– Я решил упразднить конфликт между издателем и переводчиком, учредил собственное издательство и назвал его «Самиздатом». В Греции есть тонкий слой людей, который интересуется русской литературой Серебряного века. Я решил сделать им подарок…

