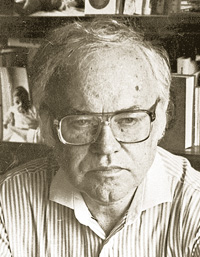В телефонной трубке – командирский голос Бориса Слуцкого: «Карандаш взяли? Записывайте: 11-я Сокольническая, дом 11, квартира 11. Да-да. Не шучу». Он диктует мне адрес Леонида Мартынова, перебравшегося в Москву.
В телефонной трубке – командирский голос Бориса Слуцкого: «Карандаш взяли? Записывайте: 11-я Сокольническая, дом 11, квартира 11. Да-да. Не шучу». Он диктует мне адрес Леонида Мартынова, перебравшегося в Москву.
Я звонил Слуцкому из редакции. К. Цыпленков – ответственный секретарь «ЛГ» – спросил меня, кто такой этот Мартынов, к которому я еду. Я сказал: «Большой русский поэт». Цыпленков смущённо хмыкнул, но добавил, что машин нет. Внизу, в шофёрской, мимо которой я проходил, два водителя азартно забивали козла. Я обиделся, но двинулся своим ходом.
Своим ходом двинулись и тучи. Когда я постучался в обитую дерматином дверь поэта, вид мой был жалок. Проливной дождь по весенней своей привычке был щедр и весел. Говоря словами Мартынова, «вода благоволила литься». И делала это азартно.
Долго просыхал в тёмной узкой комнате деревянного барака. Стол, раскладушка, пара венских стульев и… алая роза в гранёном стакане на подоконнике. Стена от соседей загорожена стопками книг – этакая горка от пола до потолка.
– Это спасает от шума.
Я бы не сказал. Звенела посуда, слышались мат и хохот. Соседи попались весёлые. Мы, пытаясь не обращать внимания на этот аккомпанемент, говорили о поэзии. Хозяин читал стихи охотно, почему-то с листа, не наизусть. Внезапно вскакивал, ходил по узкому проходу мимо горки книг, заложив руки за спину и развернув узкие плечи. Улыбался добро и беззащитно. Когда он протискивался между моим стулом и раскладушкой, я убирал ноги, а он то и дело извинялся. Когда садился, охватывал худыми руками плечи, слушал, склонив голову набок.
Мартынов пошёл провожать меня. Я думал, до остановки трамвая. Оказалось, что Л.Н. вообще не любит транспорта. «Как Слуцкий», – добавил он. И предложил: «По букинистам?»
Шёл широким шагом, всё так же, как и дома, заложив руки за спину, развернув плечи, как бы отделив их от поднятого воротника потрёпанного плаща, да так необычно, что казалось, плечи отогнуты к самим лопаткам. Ещё казалось: руки его туго связаны за спиной.
Руки были связаны, впрочем. Ещё с довоенной поры. Он не любил распространяться об этом. Ссылка была на Севере. Как у Заболоцкого, который тоже, кстати, не проговаривался, а проговаривался – так в стихах.
У Мартынова память была цепкая. Перечисляя как-то реки России, о каждой говорил ласково, как о живой, определял её повадки, характер, словно речь шла о капризных женщинах, рядом с которыми прожил в коммунальной квартире не один год. Ещё любил он камни. В поздней своей – впервые собственной – квартире позволил себе держать коллекцию. Рассказывая о камне породистом, возьмёт с полки, погладит, как собаку, положит на место. Заметил однажды, что я улыбаюсь, сказал смущённо:
– Это я от пыли…
Одежды вроде и не замечал. Сидела она на нём как бы отдельно. О нём можно было сказать то, что Л.Я. Гинзбург говорила о Мандельштаме: «Его воротничок и галстук – сами по себе».
Проблема эта встала во весь рост, когда пришлось впервые ехать за границу. Слуцкий, сам ещё не вышколенный к тому времени светской женой, и я взялись опекать Л.Н. Уж как умели.
Вместе с Борисом помогали ему обставлять квартиру на Ломоносовском.
26 декабря 1955 года был юбилейный вечер Мартынова. Я делал доклад о его поэзии. Рядом со мной в президиуме сидели И. Эренбург, Антал Гидаш, П. Антокольский, Н. Асеев, С. Кирсанов, А. Межиров, Евг. Евтушенко и седой, неизвестный мне человек. «Кто это? Очень знакомое лицо», – думал я. И вдруг по характерной складке у рта я узнал это лицо ещё до того, как председательствующий объявил: «Слово имеет польский поэт Владислав Броневский…»
Много позже в Варшаве, незадолго до его смерти, я навестил Броневского в госпитале на улице Хожей. Голубые глаза оживились, когда он вспоминал Мартынова.
Удивительно мощное эхо,
Очевидно такая эпоха!
Эти строчки Броневский повторил дважды, по-польски. И улыбался доверчиво, почти по-детски.
В его смущённой улыбке было много общего с Мартыновым. Леонид Николаевич до конца дней своих оставался наивно беззащитным. Когда случилось его единственное «грехопадение» – осуждение Пастернака – он не стал оправдываться, так и сказал мне: «Я испугался»… И сказано это было настолько искренне и по-детски, что я, помню, просто отвёл свои глаза…
Нежно относился к нему Эренбург, высоко ценил его поэзию. Когда в «Молодой гвардии» вышла маленькая зелёненькая книжечка стихов Мартынова (первая после войны) с непритязательным заголовком «Стихи», Илья Григорьевич сказал мне: «Вам бы и написать о ней». «А я и написал», – ответил я.
Тепло отзывался о поэзии Мартынова Н. Асеев. Даже хмурый и настороженный Твардовский в итальянской поездке, говорят, добродушно присматривался к странноватому этому человеку, предпочитая, однако, не говорить о его стихах.
Мне кажется, у Мартынова не было врагов. Уж очень он был беззащитен. Завистники не докучали ему, вроде как стыдно было бить лежачего. Но он-то лежачим не был. Упрямая внутренняя сила сопротивления неправде жизни сосредоточилась в стихах.
Он призывал новое и чувствовал новизну мира, как никто в поэзии своего времени. Его стихи остаются примером оптимистического предчувствия глобальных перемен, смены эпох.
«Что-то новое в мире…»
Увы, новое было недолгим. Оно быстро прошло, как «прошли» Азорские острова у другого поэта…