ТЕЛЕ ![]() ДИСКУССИЯ
ДИСКУССИЯ
Я смотрел голодные, холодные колымские серии «Завещания Ленина», паскудно прерываемые «тчарующчим ароматом» рекламного кофе, вспоминал потрясение от прочитанных много лет назад в самиздате рассказов Шаламова, в сегодняшнем Интернете легко находил его стихи, прозу, дневники и чувствовал, что, с одной стороны, ушли мы от Варлама Тихоновича далеко-далеко, а с другой – давно сблизились и свыклись с тем миром, о котором писал Вергилий Колымы.
ОТ ИЛЬИЧА ДО ИЛЬИЧА
Меня застрелят на границе,
Границе совести моей,
И кровь моя зальёт страницы,
Что так тревожили друзей.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
И чтоб короче были муки,
Чтоб умереть наверняка,
Я отдан в собственные руки,
Как в руки лучшего стрелка.
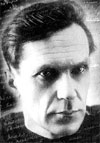 Эти разрозненные субъективные заметки – не рецензия, да и не хочется критиковать создателей фильма – они старались, сделали, как умели, то, что хотели, к тому же в рамках, судя по всему, довольно скудного бюджета. Слава богу, в сериале я не увидел прямой исторической лжи, как, например, в «Штрафбате» того же Николая Досталя.
Эти разрозненные субъективные заметки – не рецензия, да и не хочется критиковать создателей фильма – они старались, сделали, как умели, то, что хотели, к тому же в рамках, судя по всему, довольно скудного бюджета. Слава богу, в сериале я не увидел прямой исторической лжи, как, например, в «Штрафбате» того же Николая Досталя.
Более всего задело то, чего в сериале не было.
Название («Завещание Ленина») мне не понравилось, потому что оно – слишком «кассовое» (Ленин и Сталин, Троцкий и Хрущёв – самые рейтинговые на нашем историческом ТВ фамилии, и их нещадно эксплуатируют), а к жизни Шаламова Ленин со своими письмами к съезду имел, думаю, гораздо меньшее отношение, чем, например, кумиры его юности: народоволец Желябов или эсер Савинков. Хотя для судьбы юного поэта-гражданина, приехавшего в 1925 году из Вологды в Москву, интриги Троцкого с «заветами Ильича» и вовлечением молодёжи в подпольные типографии имели трагические последствия.
Стиль режиссёра Досталя – лапидарный, скупой, прозаический. Но той высокой степени художественной правды, когда одна пронзительно сыгранная сцена (или точная деталь) могла бы рассказать о времени больше, чем многобюджетное полотно, тоже, к сожалению, нет. Хотя в создании фильма участвовал известный кинодраматург Юрий Арабов, сцены 20-х годов в «Завещании Ленина» только намечены. И жаль, время это было очень интересное, разнообразное: талантливое и подлое, самоотверженное и самоубийственное… – и о нём на ТВ почти ничего художественного до сих пор не сказано (попытки в сериалах «Есенин» или «Московская сага» удачными назвать не могу). А рассказать бы правду! И повод был, ведь Шаламов, учась в МГУ, попал в самую гущу не только политической, но и художественной жизни Москвы. Он видел и слышал Маяковского, Луначарского, Мандельштама, Пастернака, Троцкого, Бухарина, Мейерхольда… – полной грудью дышал «воздухом революции», он говорил: «Моя позиция: переделки природы, поворота рек, космических завоеваний, строительства великих плотин, дамб, освобождения третьего мира. А церкви реставрировать не надо!»
И сел в первый раз, как это ни печально, «за дело».
«Разделяя взгляды большинства ленинских оппозиционеров (так Шаламов вслед за Троцким  называл троцкистов. – А.К.), я не разделил их судьбы. Брошенный в концентрационный лагерь – один – без всякой моральной и материальной поддержки – в среду уголовников, растратчиков, шпионов и контрреволюционеров – среду, с которой я не только никогда не имел ничего общего, но где можно боролся против них за партию, за советскую власть и её политику… Целый ряд выступлений вождей и целый ряд репрессивных мер по отношению к оппозиционерам, вплоть до высылки Л.Д. Троцкого за границу и последующих попыток дискредитировать имя одного из вождей Октября в глазах рабочих – достаточно веское свидетельство двойственности политики партруководства… Я считал вместе с большинством ленинской оппозиции – единственным средством выправления курса партруководства, а следовательно, и всей советской и профсоюзной политики является глубокая внутрипартийная реформа на основе беспощадной чистки всех термидориански настроенных элементов и примиренцев к ним. Возвращение ленинской оппозиции в партию из ссылок, тюрем и каторги. И я был бы не в последних рядах той партии большевиков, которую воспитывал Ленин. Вот мои взгляды».
называл троцкистов. – А.К.), я не разделил их судьбы. Брошенный в концентрационный лагерь – один – без всякой моральной и материальной поддержки – в среду уголовников, растратчиков, шпионов и контрреволюционеров – среду, с которой я не только никогда не имел ничего общего, но где можно боролся против них за партию, за советскую власть и её политику… Целый ряд выступлений вождей и целый ряд репрессивных мер по отношению к оппозиционерам, вплоть до высылки Л.Д. Троцкого за границу и последующих попыток дискредитировать имя одного из вождей Октября в глазах рабочих – достаточно веское свидетельство двойственности политики партруководства… Я считал вместе с большинством ленинской оппозиции – единственным средством выправления курса партруководства, а следовательно, и всей советской и профсоюзной политики является глубокая внутрипартийная реформа на основе беспощадной чистки всех термидориански настроенных элементов и примиренцев к ним. Возвращение ленинской оппозиции в партию из ссылок, тюрем и каторги. И я был бы не в последних рядах той партии большевиков, которую воспитывал Ленин. Вот мои взгляды».
Эти откровенные, бесстрашные и беспощадные к врагам революции (коими он считал Сталина и сталинцев) взгляды Шаламов высказал в письме прокурору ОГПУ, находясь в лагере в Вишере летом 1929 года, требуя перевести его из зоны с уголовниками к политическим. В фильме же Шаламов с самого начала аполитичен.
Не рассказано ничего о сущности политической борьбы 20-х годов. Какая всё-таки принципиальная разница была между Троцким и Сталиным (ведь из-за конфликта между ними жизнь героя круто изменилась)? Почему Троцкого не тронул на Западе никакой тогдашний «гаагский» трибунал, ведь на его совести были государственный переворот, красный террор, развязывание в России Гражданской войны с сотнями тысячами погибших – фактически геноцид? Почему Троцкий в 30-е годы упорно заявлял, что вся Россия опутана подпольными организациями его сторонников, тем самым провоцируя Сталина на массовые репрессии. С другой стороны, где граница между ошибками Сталина и его преступлениями? Где кончается борьба против большевистской деспотии и начинается борьба против СССР? В фильме об этом тоже ничего нет. Правда, каждую серию завершают документальные кадры с ликами вождей: «от Ильича до Ильича». Но кроме инфантильного: «да все они, гады, одним миром мазаны», ни к чему они не «продвигают».
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ
Нетрудно изучать
Игру лица актёра,
На ней лежит печать
Зубрёжки и повтора.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сложней во много раз
Лицом любой прохожий,
Не передать рассказ
Его подвижной кожи...
Очень хороший актёр Владимир Капустин исполняет роль молодого Шаламова, но поверить в то, что его герой был, как Шаламов, романтиком мировой революции, талантливым поэтом, я так и не смог. Выбор сумрачного резонёра на главную роль определил огорчительное упрощение и огрубление сложнейшего, интереснейшего образа. Шаламов был не только крупной фигурой русской литературы ХХ века, но и мужчиной, в которого влюблялись первые красавицы и в двадцатые годы, и в шестидесятые. Герой Капустина с самого начал скрытен, угрюм, ожесточён и временами даже похож на совсем неподходящего персонажа известной экранизации «Собачьего сердца». А в исполнителе роли Шаламова 60–70-х (Игорь Класс) чувствуется даже что-то уголовное (возможно, это шлейф криминальных ролей известного актёра, сыгранных в советское время) – трудно поверить, что этому чересчур неопрятному и необаятельному человеку могли самоотверженно служить замечательные молодые женщины, трудно поверить, что он сочинял стихи (как-то настырно прозаически исполняемые за кадром). Но актёры не виноваты, это выбор режиссёра, и он, как мне кажется, во многом определил относительный зрительский неуспех «Завещания» (так же, как, например, выбор Лунгиным Петра Мамонова на роль отца Анатолия – успех «Острова»).
Реальные персонажи... Почему создатели с ними то незаслуженно беспощадны, то, наоборот, пугливо осторожны? Начальник Кузнецкстроя Хренов (живы ли его потомки?), описанный Шаламовым, а до него в знаменитом стихотворении – Маяковским, в реальной жизни ничего из показанного в фильме не совершал.* И не умирал он (в исполнении талантливого актёра Алексея Шевченкова), смачно рыгнув перед тем, как получить «семь грамм сухим пайком». По Шаламову (а Варлам Тихонович обладал гениальной памятью и называл поимённо всех: и жертв и палачей) Хренов был «тяжелейшим сердечником», потому освобождён от работ и дожил-таки до своего освобождения.
Встречи Шаламова с Пастернаком и Солженицыным многозначительно обозначены, но не показаны. Почему? Да, отношения Шаламова с будущими нобелевскими лауреатами были сложными, горячими, но крайне интересными для нашего времени. Разрыв с Солженицыным, например, связанный с письмом Шаламова в «ЛГ» 1972 года, много бы объяснил зрителям о литературном процессе и диссидентском движении тех лет. И вряд ли это вынужденное письмо было свидетельством только слабости смертельно уставшего человека, как считали тогда многие, – сам Шаламов жёстко и определённо говорил близким, что не хочет, чтобы его «использовали» (он употреблял более грубое лагерное слово) никакое «прогрессивное человечество» и никакие спецслужбы. И доживи Шаламов до начала 90-х, не пришлось бы ему признавать с горечью: «Метили в коммунизм, а попали в Россию».
Что касается многочисленных эпизодических персонажей, то подлинных актёрских удач в фильме немного (таких, например, как у исполнителей маленьких ролей в том же «Острове»), хотя все роли сыграны добротно. Слишком много ожидаемого, как будто уже где-то сто раз виденного: мордатые вертухаи, коварные следователи, несчастные доходяги; остановил внимание неожиданно оказавшийся добрым начальник лагеря Берзин с его добрым помощником (Эдуард Федашко), который, впрочем, вскоре оказался совсем недобрым. Работа Валерия Золотухина, на мой взгляд, более всего хороша тем, что играет он, наконец, не вампира, а просто несчастного доброго человека. Владимир Конкин, исполняющий роль литературного функционера, в сцене похорон Шаламова запомнился финальным, «длинным» взглядом, в котором были и профессиональное рвение, и тоска, и сожаление, и боль – неожиданная, глубокая работа.
Жаль, что не нашлось в фильме большего места для темы отношения Шаламова с «блатарями». Воровской мир с его языком и «этикой» Шаламов ненавидел люто. Более того, он не принимал литературных произведений, в которых хоть в малой степени романтизируется уголовный мир (в том числе рассказы Бабеля про Беню Крика и романы Ильфа и Петрова). Что бы он сказал по поводу «Бригады», прочего телекриминала, непомерного «лагерного шансона» и воровской лексики в речах современных политиков, бизнесменов и разнообразных «гламурных подонков» на ТВ?
ДИАГНОЗ СВАНИДЗЕ
Клянусь до самой смерти
мстить этим подлым сукам,
Чью подлую науку я до конца постиг.
Я вражескою кровью свои умою руки,
Когда наступит этот благословенный миг.
Просматривая в Интернете отклики на «Завещание Ленина», я наткнулся в «ЕЖ» на заметку «Диагноз Шаламова» известного телеисторика, в конце прошлого века возглавлявшего ВГТРК, а ныне члена Общественной палаты Николая Сванидзе. В ней было много из того, с чем можно было бы соглашаться или спорить, но один абзац пронзил:
«Чего писатель Шаламов начисто лишён, так это постыдных интеллигентских соплей в отношении так называемого народа, под которым обычно понимаются люди, занятые физическим трудом. Собрат Шаламова по перу и антагонист по судьбе Александр Фадеев как-то, незадолго до самоубийства, сказал: «Представьте, что вы романтически влюблены в невинную девушку, и вдруг она оказывается старой, прожжённой б-ю». Русский интеллигент веками (точнее, с конца XVIII в.) относился к народу возвышенно и трепетно, как рыцарь к прекрасной даме. Эта нелепая комедия положений была бы смешна, не обернись она в ХХ в. национальной трагедией. Так вот – у Шаламова в отличие от Солженицына народнических сантиментов нет».
Потрясающее откровение. Николай Карлович сказал по поводу «так называемого народа» то, что, наверное, думает о нём он сам, зачем-то приписав свои мысли Шаламову, попутно мазнув Фадеева и боднув Солженицына. Без «народнических сантиментов» к «людям, занятым физическим трудом» задолго до Николая Карловича относились Ягода, Ежов, Берия, начлаги, лагерные вертухаи, стукачи, урки, многочисленные подонки и циники, описанные в «Колымских рассказах», и многие нынешние «б-и», для которых и Десять заповедей (Шаламов, атеист, после яростного лагерного желания мстить пришёл к ним в зрелые годы) – тоже «постыдные интеллигентские сопли»...
Далее член ОП отмечает:
«В ХХ в. лагерь культурно, психологически и, главное, этически проник во все поры нашего общества, разросся, разбух до его размеров. И убил его».
Здесь можно согласиться, имея в виду, конечно, не весь ХХ век, а конкретно либерально-криминальную революцию его конца, в которой Николай Карлович «всеми своими порами» «возвышенно и трепетно» участвовал.
«Проблематика «Колымских рассказов» давно снята жизнью...» – писал Шаламов в «ЛГ» 35 лет назад. Нет, конечно же, не снята проблематика. И в ХХI веке тоже. И не только потому, что сейчас в лагерях народу сидит чуть ли не столько же, сколько и 70 лет назад, а потому, что действительно блатная, воровская этика, основанная на презрении к народу, пронизывает всю нашу жизнь, в том числе и телевизионную. Необходимо ей противостоять. Я благодарен каналу «Россия» за то, что в преддверии 100-летия они вспомнили о великом Варламе Шаламове.
* Я и не предполагал, что вопрос о потомках может быть нериторическим, но воистину неисповедимы пути… В день, когда верстался номер, в редакцию позвонила 75-летняя женщина, Наталья Ульяновна Хренова, дочь того самого шахтёра Хренова, о котором идёт речь. Они с 79-летней сестрой Еленой Ульяновной и её мужем Михаилом Евсеевичем, тоже прошедшим колымские лагеря, шокированы ложью создателей сериала, и не только в сцене с их отцом. Ульян Хренов был освобождён досрочно в 1943 году, вызвал к себе жену с дочерьми и до самой своей смерти в 1946 году работал начальником шахты на Колыме. Родственники Хренова обещали написать подробное письмо с впечатлениями о фильме, которое мы надеемся опубликовать в одном из ближайших номеров.

 Александр КОНДРАШОВ
Александр КОНДРАШОВ