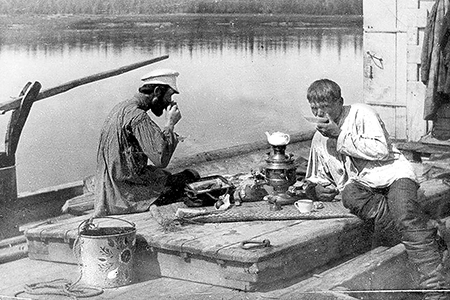В марте исполнилось 150 лет со дня рождения выдающегося собирателя русского фольклора Николая Ончукова. Многим сегодня имя и заслуги этого человека абсолютно неизвестны, между тем речь идёт о классике русской фольклористики, первооткрывателе былин на Печоре, составителе ставших классическими собраний «Печорские былины», «Северные сказки» и уникального по своему содержанию сборника «Северные народные драмы». Ончуков также оставил заметный след в этнографии и краеведении. Увы, его судьба оказалась драматичной – безобидный учёный был осуждён по ложному доносу и впоследствии умер в ссылке.

Из фельдшеров в этнографы
Николай Евгеньевич родился в г. Сарапуле Вятской губернии в семье, принадлежавшей к родам слободских и вятских купцов. Его появление на свет стало причиной смерти его матери, она захворала и спустя три месяца после родов умерла. Поэтому маленьких Николая и его сестру Сашу отправили в Воткинский завод на воспитание к бабушке, или бабиньке, как её звали внуки. Когда мальчику исполнилось семь лет, он был определён в приходское училище.
В 1890 году после окончания уездного училища Николай отправился на обучение в Казанскую земскую фельдшерскую школу, которую окончил с получением соответствующего медицинского звания.
Какое-то время молодой человек работал деревенским фельдшером в Вятской и Пермской губерниях и в больнице пермской пересыльной тюрьмы. Откуда, по его словам, «за сношения с политическими… за передачу им писем, книг и пр. … был уволен со службы и отдан под надзор жандармской власти». На рубеже веков Николай Евгеньевич приехал в Петербург, где установил связь с этнографическим отделением Императорского Русского географического общества (ИРГО), которое отправило его в первое, а затем и в последующие этнографические путешествия.
В 1901 г. Ончуков решает продолжить обучение и поступает вольнослушателем в Петербургский археологический институт по специальности «церковная археология».
В советские уже времена Николай Евгеньевич стал преподавателем кафедры русского языка и словесности педагогического факультета Пермского университета, работал в Иркутске, затем в разных научных учреждениях города на Неве и, наконец, стал доцентом Ленинградского университета. Поражает география его странствий, в ходе которых он и занимался исследованием фольклора: Печора, Вишера, Украина, Кавказ, Урал, Сибирь, Забайкалье, Поволжье… Неоценимой заслугой перед русской литературой стало участие Ончукова в судьбе случайного знакомого – никому тогда не известного Михаила Пришвина, ставшего потом знаменитым писателем.
Тем временем грянула революция и Гражданская война. Николай Евгеньевич, уходя вслед за колчаковскими войсками, оказывается в Перми и далее в Омске. Работает хроникёром газеты «Наша Заря». Эвакуируется в Новосибирск и затем в Иркутск, где поступает на историческое отделение местного университета.
Вскоре Ончуков становится профессорским стипендиатом при кафедре истории русской литературы, однако через год его выводят за штат, оставляя без денег и пайка. С трудом пережив тяжкие времена на случайных заработках, Николай Евгеньевич получает приглашение на кафедру русского языка и словесности педагогического факультета Пермского государственного университета. В декабре 1924 года Ончуков перебирается в Ленинград, где уже в статусе известного учёного читает курс фольклора и ведёт семинары на факультете языкознания и материальной культуры Ленинградского государственного университета.
Дело краеведов
И тут налаженной и благополучной жизни этнографа приходит конец. В его квартире на Аптекарском проспекте появляются вооружённые люди. Доцент арестован и помещён в камеру 728 дома предварительного заключения № 2 на печально знаменитой Шпалерной улице:
На улице Шпалерной стоит чудесный дом,
Войдёшь в него ребёнком, а выйдешь стариком…
Ончукова обвинили в том, что он, находясь в оккупации у Колчака, писал в газетах статьи против большевиков. Арест был инициирован доносом полусумасшедшего человека, перечислившего в своём дневнике всех краеведов, работавших в Ленинградской секции Краеведческого общества. В результате вся секция была арестована как «замышлявшая заговор против советской власти».
Советская фемида по делу краеведов была нетороплива, решение Особого совещания при Коллегии ОГПУ вышло почти через девять месяцев после ареста учёного – 20 мая 1931 г.
Первоначальным пунктом ссылки Ончукова стал город Котлас Архангельской области. Здесь вспомнили о первой – фельдшерской – специальности Николая Евгеньевича и отправили его на борьбу с тифом. Его жена, Анна Александровна, тем временем обратилась с просьбой о досрочном возвращении мужа из ссылки в правительственную комиссию по делам частных амнистий.
Письмо Кирову
Как это ни удивительно, но ей удалось добиться досрочного освобождения мужа. Ончуков возвращается в Ленинград. Однако возникла серьёзная проблема – как получить разрешение на проживание в городе? Решить её помогает давний хороший знакомый – Владимир Бонч-Бруевич. Он пишет напрямую первому секретарю Ленинградского обкома ВКП(б) С.М. Кирову:
Тов. Кирову
Дорогой товарищ,
позвольте мне обратить Ваше внимание на положение одного из самых известных и лучших этнографов нашего времени – Николая Евгеньевича Ончукова, на работу которого так пристально обратил внимание Владимир Ильич и советовал на основании всех тех материалов, которые он дал при своих научных исследованиях и экспедициях, сделать социологические выводы.
Он был по какому-то делу привлечён в ОГПУ, даже высылался и потом совершенно восстановлен в правах. Теперь ему не дают паспорт. А для него покинуть Ленинград – это значит покончить в настоящее время со своими научными работами, так как он находится уже в таком возрасте, что экспедиционная работа для него закрыта и осталась только одна из самых важных частей его научного творчества – работа над собранным материалом, для чего нужно иметь под руками архивы и библиотеки, сосредоточенные в Ленинграде.
Крепко жму Вашу руку. С коммунистическим приветом,
Влад. Бонч-Бруевич».
Вмешательство Бонч-Бруевича помогло, но о преподавании в Ленинградском университете для бывшего ссыльного не могло быть и речи. Его принимает научным сотрудником директор академического Института языка и мышления академик Н.Я. Марр, которого потом самого репрессировали.
Ленинград для Ончукова стал поистине городом кошмаров. 1 декабря 1934 года в коридоре Смольного убит Киров. Почти сразу началась зачистка города и его окрестностей от людей, не имеющих абсолютно никакого отношения к убийству. Управление НКВД по Ленинградской области издаёт циркуляр «О выселении контрреволюционного элемента из Ленинграда и пригородных районов». Под удар попадает и Николай Евгеньевич вместе с супругой. Решением Особого совещания при НКВД СССР он как социально опасный элемент лишается права проживания в 15 крупнейших городах страны и высылается из Ленинграда. Воспользовавшись правом выбора города для жительства, Ончуковы выбирают Пензу. Увы, этот выбор оказался роковым.
Последний срок
Вскоре учёный снова оказался под процессом, и снова по ложному обвинению. Приговор суда прозвучал 20 марта 1940 года. Большинству обвиняемых дали различные сроки лишения свободы и, что тогда называлось, «по рогам», т.е. поражение в правах. Николай Евгеньевич получил по максимуму – 10 лет заключения плюс 5 лет «по рогам».
Ончуков отбывал наказание в ИТК № 1, расположенной в Ахунах, близ Пензы. Заключённые там трудились на торфоразработках. Шла война, кормили впроголодь. По имеющимся свидетельствам, над «контриками» издевались «социально близкие» к власти уголовники. В письме из лагеря жене Ончуков просил:
«Дорогая Аннушка! Передачу получил. Масло по получении уже текло, в рот не попало. Принеси: бинт узкий, хлеба чёрного, масла, сахару, сухарей чёрных, редьки, морковки, две иглы (прежние уже украдены), луку и чесноку, гребень частый (очень нужно), газет для раскурки. Раньше 10 дней не приходи, в мороз и буран также…»
Жить ему уже оставалось недолго, умер выдающийся фольклорист в марте 1942 года. В свидетельстве о смерти причиной кончины была названа «старческая дряхлость».
Место захоронения Николая Евгеньевича неизвестно. Пензенский журналист Олег Савин, автор книги о репрессированных земляках, пытался выяснить в органах местоположение кладбища ахунских жертв террора, однако успеха не добился. Неизвестной осталась и судьба рукописей учёного, также приобщённых к следственному делу. Среди них значатся личные записки Ончукова «Поездка к патриарху», «Прикамская жизнь», «Беженство» и его интереснейший «Дневник».