Антологии классики должны быть доступны всем
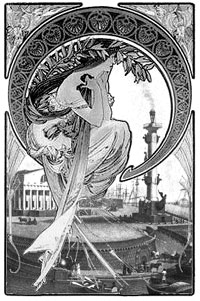 Всё-таки как мы богаты и как не ценим этих богатств, не по-хозяйски ими распоряжаемся! Речь идёт не о природных ресурсах, а о накопленных многими поколениями наших предков и оставленных нам в наследство богатствах духовных. На первом месте здесь наша литература – проза и поэзия.
Всё-таки как мы богаты и как не ценим этих богатств, не по-хозяйски ими распоряжаемся! Речь идёт не о природных ресурсах, а о накопленных многими поколениями наших предков и оставленных нам в наследство богатствах духовных. На первом месте здесь наша литература – проза и поэзия.
В XIX веке поэтический «золотой запас» России пополнялся быстрее, чем недавно росли золотовалютные резервы Центробанка. Лишь у нас от изобилия возникли соблазн и не очень умная идея искусственно строить поэтов «в ряды» – «поэты первого ряда», «поэты второго ряда» и т.д. Это в футболе допустимо: высшая лига, первая лига, вторая лига… На самом же деле поэты стоят в одном ряду – от больших самородков до маленьких блестящих песчинок, только все вместе составляя полную картину отечественной поэзии.
Поводом для этих рассуждений послужило появление весьма неординарного издания. Речь идёт о книге «Антология русской поэзии. Золотой век». Её выпустило издательство «Эксмо», составитель – Сергей Дмитренко. «ЛГ» уже кратко сообщала о выходе в свет этого издания. В однотомник объёмом почти 1000 страниц включены 750 стихотворений 150 поэтов. Многих имён (а каждое сопровождает краткая биографическая заметка) наши современники не знают. Здесь уместно напомнить, что несколько ранее то же издательство выпустило «Антологию русской поэзии. Серебряный век» (составитель – тот же).
Слово для названия таких сборников пришло из греческого языка – «антология», что в переводе означает «собирание цветов». Востребованность такого рода изданий – в большей или меньшей степени – была всегда. В своё время заметными событиями становились появления антологий поэзии союзных республик. Читатели всей страны получали возможность знакомиться с произведениями, которые не могли прочитать на языке оригинала. Сейчас у тех, кто живёт в России, нередко складывается впечатление, что в бывших союзных республиках почти не стало поэтов, композиторов и других мастеров культуры, кроме тех, кто живёт в Москве. Похоже, что развал СССР «цивилизованно развёл» не только республики, но и культуру.
Составить литературную антологию, ценность которой в целом никто не отрицает, но не получить при этом порцию критики чаще всего невозможно. По-видимому, и с «Золотым веком» без этого не обойдётся. Можно даже предположить, какие «точки» находятся под критическим прицелом. Да, скажет критик, хорошо, что вернули из реки забвения некоторые имена и произведения. Но вот не нашлось места графу Владимиру Соллогубу: он ведь не только прозу («Тарантас»), но и стихи сочинял. Обязательно напомнят, что в стихотворные подборки каждого автора должны быть включены наиболее представительные его сочинения. А как можно представить творчество Леонида Трефолева без «Когда я на почте служил ямщиком…»?.. Формально этот текст – почти два десятка четверостиший – перевод с польского. Но сделан он в совершенно русском духе, что, кстати, не обидело «исходного» автора – сосланного в Ярославль польского поэта Сырокомлю (настоящее имя – Людвиг Кондратович).
Далее: составитель и автор биографических справок считает Кондратия Рылеева поэтом средних способностей, которого литературоведы советской эпохи объявили чуть ли не классиком за участие в декабристском восстании. Но такое мнение вовсе не должно подталкивать к выбору двух не самых удачных произведений поэта-декабриста, оставляя в стороне «Думы», в том числе самую известную – об Иване Сусанине.
Кто-нибудь из знатоков обратит внимание на «обиженного» Петра Шумахера. Самая скудная справка: учился в коммерческом училище, служил в Министерстве финансов. Столь мало о человеке, чья жизнь прошла через колебания большой амплитуды. «Наиболее представительными» его сочинениями были шутливые экспромты, сатирические стихи, пародии. Именно их, по свидетельству современников, продолжали читать на вечерах почти четверть века после смерти автора – вплоть до начала Первой мировой войны. Представлять его «мастером эротической лирики» – явный перебор. Правильнее: слишком «озорные», непечатные по тем временам выходили из-под пера строки, пропитанные напускной иронической «грубятинкой».
Литературоведы наверняка предъявят и другие претензии, причём с какими-то из них издателям и составителю придётся согласиться. Нельзя же будет ни в коем случае соглашаться, если кто-то упрекнёт за включение в сборник авторов, «не оставивших заметного следа в русской литературе». Если перед нами действительно поэт, а не графоман, след обязательно останется, если соотечественники оберегают этот след.
Вспомним недавние времена: с каким пиететом относились в тогдашних союзных республиках к наследию мастеров прошлого. Особенно когда отмечались «круглые» даты со дня их рождения. Чуть ли не целый год шли газетные и журнальные публикации, открывались выставки, проходили научные и читательские конференции. Нередко завершалось всё торжественным вечером в Москве в Большом театре с присутствием членов Политбюро ЦК КПСС и отчётом на «подвал», а то и на целую полосу в центральных газетах.
Из русских классиков прошлого такой чести удостаивались единицы. Да и то кое-кому крупно не везло, особенно Лермонтову (1814–1841). 100-летие со дня рождения – Первая мировая война, 100 лет со дня гибели – Великая Отечественная, 150-летие со дня рождения совпало с проведением октябрьского Пленума ЦК КПСС, где произошла смена партийного руководства и на слуху были совсем другие «герои нашего времени», 150 лет со дня кончины – августовский путч 1991 года и развал СССР. (Любопытно, что «готовит» Михаил Юрьевич к 2014 году, к своему 200-летнему юбилею?)
Вышедшая в свет антология полезна, помимо всего прочего, тем, что она вновь соединила с именами авторов многие известные стихи, положенные на музыку. В каких-то случаях тексты не забыты только благодаря этому. Музыку создавали композиторы, часто мелодии рождались и как бы сами по себе. Возникала самая что ни на есть народная песня в отличие от искусственной типа «В селе малом Ванька жил, Ванька Таньку полюбил», которую народ не принял (сочинение Модеста Мусоргского).
Широко распространено мнение, что стихи, ставшие народной песней, – это и есть наилучшая оценка автора, пусть даже его имя напрочь забыто. Такую точку зрения (правда, с оговоркой) вновь высказал на страницах «Литературной газеты» один из участников дискуссии о современной песне. «С одной стороны, – пишет он, – «обезличивание» для автора как бы и обидно, но с другой – не высшая ли это похвала его сочинению?!» (Сергей Шуртаков, «Разве она не народная?!». «ЛГ», ‹ 2, 2007). А почему бы вместе «с высшей похвалой» не назвать того, кто её заслужил? Когда песня звучит по радио, в концерте? Как и наши отцы, деды, а кому-то – и прадеды, мы за праздничным столом, в наши дни, увы, очень редко накрываемом, после рюмки-другой обязательно споём «Среди долины ровныя», «Вечерний звон», «То не ветер ветку клонит…», «Мой костёр в тумане светит», «Хас-Булат удалой!», и про тонкую рябину, и конечно, про Стеньку Разина, чьи расписные челны плывут уже век с четвертью. Поём и порой не знаем, что слова этих песен написали Алексей Мерзляков, Иван Козлов, Сергей Стромилов, Яков Полонский, Александр Аммосов, Иван Суриков, Дмитрий Садовников.
Вместе с этими произведениями в антологии помещено ещё одно стихотворение удивительной судьбы. Лет шестьдесят назад к нам в страну, прорвавшись через границы, прилетела песня с мелодией, близкой к ритму танго. Родилась она в эмигрантских кругах, и, конечно, в концертах и по радио у нас исполнять её категорически запретили. Но это не помешало песне «Журавли» надолго стать, как сказали бы теперь, «хитом». Выпущенные за рубежом грампластинки как-то ухитрялись провозить через кордоны, иногда такой диск продавали в Москве «с рук» за 100–120 рублей – немалые тогда деньги. Но пластинок было мало, популярностью пользовались записи «на рёбрах» (рентгеновских плёнках), «умельцы» брали за них рублей по двадцать. Нелегальные «Журавли» звучали на самодеятельных танцплощадках и в маленьких окраинных клубах, в пригородных электричках пели искалеченные на войне люди, просившие подаяние.
…Игла тяжёлой патефонной мембраны извлекала из плёнки сразу же запоминавшиеся мотив и слова: «Здесь под небом чужим я как гость нежеланный, / Слышу крик журавлей, улетающих вдаль. / Сердце бьётся сильней, вижу птиц караваны, / В дорогие края провожаю их я». Тогда, видимо, лишь самые искушённые знатоки могли определить, что в основу текста положено немного изменённое стихотворение Алексея Жемчужникова «Осенние журавли», созданное ещё в 1871 году. Многие строки вообще остались в первозданном виде. Редчайший по продолжительности интервал между первым и вторым рождениями поэтического произведения. Теперь оно вновь родилось – в который уже раз!
Составитель антологии в предисловии называет выходившие ранее собрания русской лирики и отсылает к ним «тех поклонников поэзии, кто стремится к долгому путешествию в мир блистательного девятнадцатого века». Однако сейчас мало кому удастся совершить такое «путешествие»: перечисленные книги выпущены 35, 40, а то и почти 50 лет назад. Искать их – это почти то же самое, что охотиться за «Русской музой» 1907 года издания. Такие «паузы» обозначают не что иное, как пустоты в человеческом интеллекте. Но вроде бы они начинают хоть частично заполняться.
Естественно, может возникнуть вопрос: правомерно ли представлять большим событием выпуск книги тиражом всего 4100 экземпляров? Конечно, глядя на эту цифру, испытываешь чувство стыда, потому что русский перевод седьмой книги о Гарри Поттере печатается у нас, как говорят, в количестве 1 миллиона 800 тысяч. (Кстати, есть основания полагать, что искусственно созданный ажиотаж вокруг этого произведения постепенно утихнет и не стоять Гарри рядом с Алисой из страны чудес.)
«Что поделаешь, рынок!» – слышны тяжёлые вздохи. Так не настала ли пора государству временами возникать на этом «рынке» с большими тиражами и доступной по цене «продукцией»? Деньги вроде бы есть. Публицисты и политики охотно цитируют слова президента о курсе «на инвестиции в человека, а значит, в будущее России». А разве вложения в издание книг не есть инвестиции в человека – человека образованного, эрудированного, знающего родную литературу и получившего своего рода «прививку» от расплодившихся бацилл примитива, заумного бреда и пошлости?
Пусть массовый тираж, к примеру, той же поэтической антологии будет поскромнее, чем у вышедшего в середине 80-х годов прошлого века трёхтомника произведений Пушкина (10 700 000 экз.). Но книга всё равно попадёт в библиотеки (в том числе – школьные), пополнит многие домашние библиотечки.
Разумеется, потребуется хорошая реклама. Но и тут есть с кого брать пример. Член Госсовета КНР, вице-премьер Чень Жили, признанная одной из самых влиятельных женщин в мире, была почётным гостем недавней Московской книжной выставки-ярмарки. А там, между прочим, презентовали и две антологии: китайской прозы – «Китайские метаморфозы» и поэзии – «Азиатская медь».
Мы очень задолжали поэтам «золотого века», вместе с прозаиками сотворившим великую литературу. А долги надо отдавать, печатая и читая созданное ими, помня имена авторов. Отдавать долги, становясь при этом богаче благодаря золоту, которое от времени не тускнеет.
, МОСКВА
