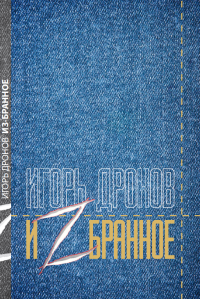
Не так давно в Иркутске вышла книга поэта, культуртрегера, организатора поэтических фестивалей Игоря Дронова (1961-2018) «Из-Бранное». В книгу вошли стихи Дронова разных лет, а также эссе о нем друзей-литераторов. Некоторые из этих эссе мы решили предложить нашим читателям.
ЗВЕЗДА НАД ОЛЬХОНОМ
Поэзия на Байкале для меня – как для многих – началась с Анатолия Кобенкова. Вскоре Толя переселился в Москву, потом его не стало. Казалось, с уходом Кобенкова фест неминуемо загнется: в Иркутске многое впрямь держалось на его непререкаемом авторитете и обаянии. Поэтому, когда меня во второй раз пригласили приехать в Иркутск, первым чувством стало искреннее изумление: неужели кто-то еще решился взвалить на плечи непосильный груз фестиваля? Жутко хотел вытащить на Байкал Генку Жукова – но в последний момент у него что-то не срослось. Полетели с Виталиком Калашниковым, Максом Амелиным и Виталием Науменко. И Генки, и обоих Виталиков, увы, больше уже нет.
То, что число гостей IX Фестиваля вышло сравнительно невелико, объяснялось просто: деньги местным начальством впрямь выделялись «под Кобенкова». Люди, на свой страх и риск решившиеся на продолжение феста, окружающими воспринимались как безответственные авантюристы, кем-то – как камикадзе. Во время первого посещения Иркутска Игоря, если честно, я особо не запомнил: слишком плотным косяком шли события, выступления и люди. Так что Дронов для меня начался именно с IX Фестиваля. Начался как такой вполне себе самодостаточный смерч. Энергия его поражала. Особенно по контрасту с покойным Кобенковым – всегда старавшимся держаться подчеркнуто незаметно, деликатно. Дронов – наоборот – самим фактом появления в общем пространстве недвусмысленно заявлял: «Я здесь для того, чтобы устроить вам всем праздник! И я его устрою, чего бы это ни стоило!»
Все жестикулярные и имиджевые примочки уже были при нем: фирменное потирание рук, фирменная улыбка, фирменный, выверено-карнавальный стиль одежды. Но прежде всего – повторюсь – это был смерч, энергетический поток, противиться которому казалось попросту невозможно. Да и к чему? Фестиваль был устроен на диво уютно, грамотно, с любовью. Уже потом я узнал, что Игорь докладывал в его проведение собственные деньги. Что уже после феста его начали методично изводить интригами в Союзе писателей, навешали нелепых обвинений. Даже попытались отстранить от проведения фестиваля, приватизировать (из каких-то шкурных соображений) раскрученный бренд.
В общении с Дроновым (для меня лично) существовало два, сильно различавшихся, режима: публичный и tête à tête. Публичному Дронову прям-таки вусмерть важно было выглядеть безукоризненно-победительным. Он зорко следил, чтобы гостям было комфортно. Подобно снисходительному отцу-командиру отслеживал подвыпивших стихотворцев. Стремился, чтобы инициированное его энергией и волей праздничное действо развертывалось – даже в мелочах – по первому разряду. То же касалось публичных дискуссий. В них Игорь непременно должен был одержать победу – даже отстаивая идеи, на вкус собеседников, весьма сомнительные, а то и вовсе завиральные. При этом на себя одеяло тянуть Дронов не стремился. Ему важнее было спровоцировать дискуссию – «замутить движуху» – вовлечь в нее как можно больше участников, а потом наблюдать со стороны за ее непредсказуемым развитием. Улыбаясь и довольно потирая руки. Все-таки Игорь был чистейшим, беспримесным персонажем карнавальной культуры. Атмосфера «движухи», казалось, была ему необходима, как воздух. Потому и обречен был сам генерировать ее беспрерывно, что без движухи жизнь моментально становилась скушной, пресной, неправильной. Лишенной смысла. Со стороны он долгое время воспринимался эдаким понтярщиком. Да: обаятельным, праздничным, доброжелательным, неимоверно симпатичным – но все ж таки понтярщиком. Человеком неглубоким и легковесным.
Сейчас уже не упомню, когда и при каких обстоятельствах нам толком впервые довелось пообщаться с глазу на глаз. Так я узрел совсем иного Дронова: глубокого, серьезного, искреннего. Отсутствие необходимости работать на публику освобождало его от карнавальной маски – и стиль дискуссии менялся разительно. В отличие от Дронова- публичного, стремившегося настоять на своем любой ценой, Дронов-непубличный мог позволить себе признать собственную неправоту, в чем-то согласиться с оппонентом. Хотя личные strong opinions защищал с никак не меньшим темпераментом. Именно из приватных разговоров, открывающих Дронова- непубличного, я понял, что встретился с редкостным случаем истинного подвижника поэзии. Вот уж кто – бесспорно – «любил поэзию в себе, а не себя в поэзии»! Любил до демонстративного, горделивого самоумаления: в отличие от практически всех ведомых мне организаторов аналогичной поэтической движухи Дронов – в рамках фестиваля – ни разу (!!!) не позволил себе собственное чтение за компанию с приехавшими в Иркутск известными поэтами. Для человека, привыкшего к лукавству нынешнего литературного этикета, подобное внутреннее целомудрие воспринималось чем- то практически невероятным, драгоценным. При этом позиция Дронова явно была лишена кокетства или самоумаления: выступать он умел и любил (свидетельством – активное участие в слэмах) и цену себе знал прекрасно. Просто – в рамках проходящего фестиваля – ему казалось принципиально важным познакомить земляков именно с гостями. А затесаться самому в их компанию – представлялось знаком какой-то внутренней небескорыстности, что ли.
Люди, любящие поэзию столь целомудренно и бескорыстно, как любил её Игорь, – величайшая редкость. Все-таки внутрицеховую ревность никто еще не отменял, и восприятие коллеги-современника как потенциального конкурента – чувство вроде как и «низкое», но вполне обыденное, самому себе вполне извинительное. Дронов в этом смысле оставался верен неким суверенным, некогда ранее взятым на себя обетам. Если чьи-то тексты ему не нравились – переубедить его было невозможно. Зато уж если в чьи-то стихи влюблялся – любовью своей буквально фонтанировал, стремился заразить ею всех и каждого.
Жуткая несправедливость видится в том, что как поэт – не как культуртрегер, организатор и участник слэмов, один из по пальцам считанных людей, на которых держалась литературная жизнь Иркутска – а именно как поэт он известен до обидного мало. Строго говоря, сам виноват. От предложений помочь ему с публикациями Игорь отмахивался с досадой. Гадать о причинах глупо. Так уж сложилось, что человек, исхитрявшийся на протяжении многих лет тащить на плечах практически непосильный груз организации Фестивалей поэзии, пиаром собственной стихотворной продукции был озабочен мало. В самом начале нашей дружбы Дронов признался, что меня некогда выделил из обильной толпы столичных стихотворцев по тому же признаку: «Ты больше другими, чем собой, все эти годы занимался…» Что ж, значит, предстоит прочитать и осмыслить написанное им заново. При всем скептическом отношении к слэмам – пересмотреть сохранившиеся ролики. Из сохранившихся разнородных фрагментов мозаики – заново скрупулезно припомнить его, такого (на мой вкус) противоречивого и, одновременно, такого цельного. В этом сочетании противоречивости и цельности – лично для меня – содержится некий саднящий, незаживающий вызов. Непременное желание понять – пусть даже для этого придётся кардинально сменить оптику.
Незадолго до ухода мы чудом сумели повидаться в Питере, всего на несколько часов. У Дронова была командировка в Выборг, а я из последних сил пытался спасти уходящую маму. К тому времени в соцсетях мы с удручающей регулярностью ссорились по поводу политики. Я недоумевал и обижался, когда Игорь – ни в чем не ведавший удержу – пытался меня троллить. Но вот встретились, поговорили с глазу на глаз, и все встало на свои места: политика – политикой, а дружество – дружеством. Проводил его до метро. Обнялись – уверенные, что точно так же обняться доведется еще не раз.
Когда человек умирает, как известно, изменяются его портреты. Я не видел Дронова в гробу – и слава Богу. Для меня Игорь остается по-прежнему живым – более живым, чем многие из соседей по планете. Просто переехавшим в некую точку, связь с которой все же возможна – хотя и затруднительна. Как покойный отец, убывший в стихах Бродского в Австралию. Вот и Дронов переселился на какой-то небесный Ольхон. Недаром строки «Я видел звезды над Ольхоном. / Теперь не страшно умереть» – я написал во время незабываемой поездки, которую они с Асеевой (Анна Асеева, вдова Игоря Дронова – «ЛГ») мне подарили. И они же, разумеется, стали их первыми слушателями. Ушедший Игорь стал для меня точно такой звездой над Ольхоном. Увидеть их на небе – подвешенными неимоверно близко, как яблоки в саду, рукой коснуться можно – случается неимоверно редко. Мне довелось. Благодаря Игорю и Ане. Ане – сил. А Игорь остается для меня важнейшим внутренним оппонентом. Одним из редкостных – драгоценных – читателей- собеседников, чье понимание делает занятия стихотворчеством небессмысленными. Даже в наши, не самые благоприятные к поэзии времена.
Мазохистически предвкушаю, как непременно увидимся и обнимемся, брат. И ты, довольно потирая ладони, неистовство примешься доказывать мне, что вот здесь, здесь и здесь я написал откровенную фигню. На радостях готов даже согласиться. Во всем.
Виктор КУЛЛЭ
НЕСОГЛАСНЫЙ
Несогласный. Супротивный. Никогда и никому не уступающий Дронов. Недоговороспособный. Мы рубились с ним в автобусе до самой Листвянки, тратя бесценные дни байкальского фестиваля. На что? На Россию! На «великую страну с ее позором», как в его стихах. Рубились и на фейсбучном поле непрестанно, кажется, до последней минуты. Не на жизнь, а на смерть… Насмерть… А потом, когда добрались до Байкала, он словно все забыл, затих – дал место моему – нашему – любованию и счастью.
Дронов так вот и жил – насмерть. И, ни в чем никому не уступая, хранил черты благородного мужа – золотую конфуцианскую норму Цзюнь-цзы. Он умел умолкать, умел уважать – это сегодня едва ли не самое редкое умение. Умел уходить в тень, давая место тем, ради кого жил. Насмерть жил! Лучшее, что я прочитала в мартирологе после его ухода: «Известный поэт, редко читавший свои стихи». За три фестивальных дня я вообще не слышала, чтобы Дронов хоть заикнулся своим, намекнул на себя.
Три дня? Какое ты вообще имеешь право о нем писать, ты его знала-то три дня – толкают под локоть «приличия». А такое по запаху родства при нивчемнесогласии. Когда обнялись на прощанье, оказалось, вечное, – я своим патологически слабым обонянием этот запах поймала безошибочно. Я знала, к кому обращусь, «если что». Игорь Дронов – он был вот такой, человек на «если что».
Фестиваль работал, как часы. Швейцарские, элитные часы. Тик в так, минута в минуту. Ни одной накладки, ни малейшей заминки. Потому что Дронов стоял за плечом. Фестиваль и разорвал в конечном счете его сердце, как – отложенно, на московской улице прежде вырвал сердце Толи Кобенкова. Человек дающий всегда рискует больше человека берущего. Человек любящий уязвимее человека любимого. Хотя тут никакой закономерности нет – смертны и те, и другие. Но все же – уязвимее. Хотел ли Дронов выглядеть неуязвимым? Он никак не хотел «выглядеть», никем «казаться». Он был невообразимо и недостижимо подлинным. Неуязвимость, как и красота, «в глазах смотрящего». Это нам, ведомым и зависимым, как все, кто на кого-то положился, хотелось его таким видеть. Лишь потеря выявляет истинную ценность. И человека, и вещи. Например, швейцарских часов.
Эта «непритворяемость» Дронова при его жизни была многим неудобна, не по размеру, иначе зачем люди, не знавшие его и с мой смехотворный срок, посмертно понесли Дронова на все корки? Потому что безопасно, потому что ответа не будет? Но кто сказал, что не будет? Посмертие проявляет человека, как фотографию по доцифровой технологии. И я успела понять, что Дронов думал о смерти неотступно. И эпиграфом к поминальному стихотворению, посвященному другу, поставил Элюара: «Пока на земле все еще есть насильственная смерть, первыми должны умирать поэты». Но «ненасильственной» не бывает – значит, поэты умирают первыми в любом случае. Потому что живут насмерть!
И еще: смерть – это такой брудершафт, где перемена «вы» на «ты» совершается естественно, безобрядно. К вечности и к Богу на «вы» не обращаются.
Игорь, ты, конечно, не согласен со мной?
Марина КУДИМОВА
ИРКУТСКУ ЕГО НЕ ХВАТАЕТ
Собственно говоря, последняя встреча и стала первым реальным знакомством — до этого мы виделись в обычных точках сбора, как правило, через головы других участников, и дальше взаимного расположения дело не шло. И я знаю, что он уже раньше пытался зазвать меня на иркутский фестиваль поэзии, но дело тормозила то ли нехватка средств, то ли нерасположение других возможных участников. А когда наконец получилось, дружба оказалась слишком короткой — для нее не хватило времени, Игорь Дронов скончался через считанные недели после закрытия форума.
Кураторы и организаторы бывают разных мастей, и нередко встречаешь таких, для которых мероприятие — всего лишь лишний повод выделиться самому, ступень карьеры. Дронов был явно не из этого материала, ему доставляла искреннюю радость сама его способность собрать людей, чье дарование он ценил независимо от их мировоззрения. Мой собственный опыт участия единичен, но ему удалось меня убедить, что этот метод работает. Он умел выявлять в людях то, что их объединяет, отодвигая на задний план то, что их разобщает – сам я слишком хорошо помню фестивали, которые разбивались на изолированные группы, старающиеся в лучшем случае обтекать друг друга. В Иркутске не было никаких водонепроницаемых переборок – мы выступали на одной сцене и сидели за одним столом. В том, что это была в значительной мере личная заслуга Игоря Дронова, ни у кого не было сомнений.
Стены и переборки возникают, когда уходят люди, посвятившие свою жизнь их сносу. Дронов был из тех, кто склеивал, а не разрезал. Каждый из нас, тех, кто знал его лично, понес утрату, но все мы вместе – десятикратно. Иркутску его не хватает, и это не надгробная фигура речи.
Алексей ЦВЕТКОВ
