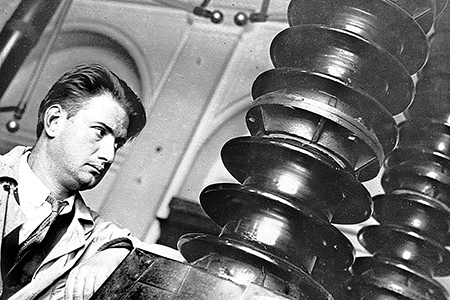
Поначалу мне хотелось назвать это маленькое посвящение выдающемуся человеку довольно просто и слегка нескромно – «Мой Курчатов». Почти как у Цветаевой – «Мой Пушкин». И поводы, думаю, для такого названия у меня были. Во-первых, я ещё застал живыми ближайших соратников Игоря Васильевича – академика Марчука и профессора Дубовского. И имел счастье часами расспрашивать их о Курчатове. Первого – об обнинском периоде совместной работы, второго – о челябинском, московском и тоже обнинском. Итоговое резюме обоих по Курчатову получилось выразительным: «Велик и благороден».
Во-вторых, и мне довелось в молодости хаживать теми же кривыми улочками старого Симферополя, по которым бегал сначала в городскую гимназию, а затем в Таврический университет будущий академик. В-третьих, на рубеже веков посчастливилось-таки добраться до сокрытой за многометровыми заборами «мекки» мирного русского атома. Самой поздней и самой сокровенной любви Курчатова – первой в мире Обнинской АЭС. До её реакторного зала и диспетчерской со ставшими раритетами довольно монументальными и чуть грубоватыми приборами на главном пульте управления и самым внушительным из них – тяжёлым карболитовым телефонным аппаратом «Багта-50», по которому, как шепнули мне на ухо сопровождающие, в день пуска связывался с Кремлём Курчатов.
И, наконец, потому считаю вправе именовать Курчатова «моим», что глубоко уверовал в несоответствие канонического представления о нём как «равноапостольном» отце-крестителе советских ядерных и водородных бомб с реальным гуманистическим посылом этого выдающегося человека. Так в жизни бывает. Страстный миротворец в годины далеко немирных страстей. Соратники Курчатова вспоминали, что накануне испытания первой советской атомной бомбы их грозный шеф решил уединиться в храме Новодевичьего монастыря и встать перед иконой Божией Матери. О чём молился Курчатов? Кто знает… Может, о том, чтобы всё прошло успешно? То есть чтоб рвануло так рвануло – всем на страх и на зависть? Чтоб земной шар вздрогнул от ужаса и притих? Или наоборот: чтоб если и взорвалось, то никого потом и никогда не убило?
Когда взорвали бомбу водородную, Игорь Васильевич, говорят, от увиденного заметно сник. Это чудовище, делился он с близкими, никогда и нигде не должно быть использовано. Но в ту милитаристскую пору так думали далеко не все. Даже молодой и даровитый Сахаров поначалу не находил в сконструированном им термоядерном драконе ничего предосудительного. Якобы водородная бомба – этот цепной пёс умиротворения – должен неотлучно бдеть у дверей каждой из великих держав.
Игорь Васильевич, видимо, в пику взявшему разгон бомбо-водородному соперничеству, предпринимает самые решительные шаги по укрощению термояда исключительно в рамках мирной энергетики. Но построить мирную термоядерную электростанцию всесильному академику так и не удалось. И никому пока тоже. Да и вряд ли скоро получится. Но суть в другом – в идее не убивать с помощью атомной энергии и не разрушать (что, как выясняется, воспринимается и сегодня не везде одобрительно), а мирить и строить.
Курчатову удалось многое, но не главное – усмирить строптивый атом. Родить разрушительную атомную мощь – да, это человек может; а вот умиротворить – пока нет. Одной жизни на две глобальные задачи оказалось мало. Тем более такой непродолжительной, как у Курчатова, и тем более в столь жестокое время милитаризации и ожесточения, какое нам всем досталось.
Как бы в искупление не вполне оправдавшихся мирных надежд Курчатова страна назвала его именем десятки улиц и площадей, университетов и отраслевых НИИ, украсила осанистыми бюстами и памятниками сады и скверы многочисленных атомградов. Продолжает называть его именем самолёты и корабли. Но не спешит разглядеть в этом насквозь, казалось бы, сверхдержавном «академике атомных бомб» сокрытую трагически-гуманную суть великого человека, призванного Всевышним, видимо, к созиданию, но приставленного отвергающими его – к разрушению…
