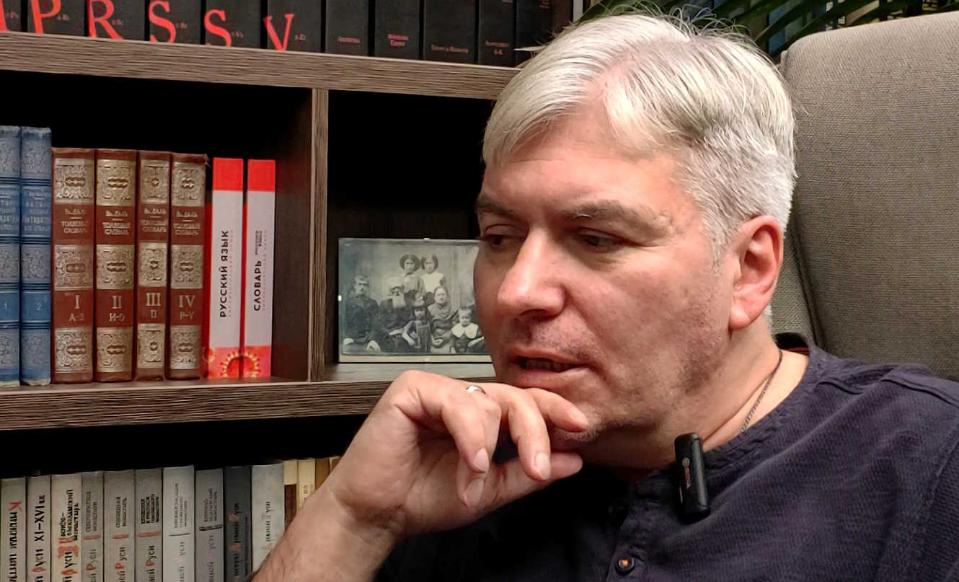Известно, что в декабре в Москве состоялось торжественное вручение премии «Большая книга». В голосовании Литературной академии первое место получил роман Евгения Водолазкина «Чагин», а в народном голосовании на первое место вышла книга Захара Прилепина – «Шолохов. Незаконный». Оба автора не в первый раз становятся лауреатами этой премии.
После награждения Евгений Германович вернулся в Петербург, на родную Петроградскую сторону. А я, в свою очередь, перешла Тучков мост и оказалась в гостях у Евгения Германовича и его супруги Татьяны Робертовны. Мы жители двух соседних островов – островитяне.
Я принесла сувенир, а выражаясь пафосно – мечту. Потому что когда-то на Неделе русской литературы в Стамбуле Евгений Германович поделился со всеми нами таким сюжетом:
– Однажды на Камчатке со мной произошла странная история. В тот день свирепствовал циклон, на улицу было не выйти, и мы коротали время за коньяком. В какой-то момент я посмотрел на часы – большие круглые часы, висевшие на стене. И увидел, что стрелки идут в другую сторону. Подумал: всё, приехали. И пил вроде немного, ну не так чтобы… Тру глаза, подхожу ближе, смотрю, не проходит. Позвал жену, говорю: «Смотри, время – назад». Таня смотрит – то же самое: часы в другую сторону идут. Позвали хозяина: что с часами?! Не знает.
Договорились на следующий день на трезвую голову встретиться, часы сверить. Встретились. Так и идут обратно. Сломались, наверное. Мы уехали, а я до сих пор жалею, что не попросил эти часы в подарок. Я же постоянно пишу о времени, а тут часы в прошлое.
В тот момент все слушатели понимающе кивнули, мол, да, сломанные часы – вещь в хозяйстве необходимая. Позже выяснилось, что такие часы существуют. И я дарю Евгению Германовичу часы с обратным ходом. Вполне возможно, что эта мечта была чисто эстетическая, не требующая воплощения. Но я всё-таки осуществила материализацию мечты.
– Евгений Германович, давайте представим, что эти часы волшебные. В каком времени вы бы хотели оказаться? Куда бы перевели стрелку?
– Пожалуй, в Серебряный век. Это время мне нравилось всегда: расцвет искусств, литературы. В истории существуют времена абсолютных перемен, причём часто довольно грустных, а тут какое-то радостное было умонастроение у всех. Поэтическое время. Туда бы я, пожалуй, причалил.
– А с кем бы вы хотели там встретиться?
– Знаете, в киносценарий «Авиатора» я добавил такой диалог: «А видел ли ты Блока?» Герой отвечает: «Видел, мы стояли в аптеке в одной очереди, а потом он что-то купил и вышел». – «А ты за ним почему не вышел?» – «Ну а что я мог ему сказать?» – «Ну хоть что-нибудь. И что-то от него услышать».
У меня даже был телефон Блока: четыре цифры и первая буква «Б». Но звонить сейчас, увы, бесполезно. Да и в Серебряном веке я бы тоже, наверное, не позвонил. Блок был человек занятой.
– Недавно на улице Декабристов поставили памятник Блоку. Очень много споров вокруг этой скульптуры…
– По-моему, интересная скульптура. Хорошо, когда ставят памятники. Хуже, когда их сносят.
– Это точно. А теперь вернёмся из Серебряного века в день сегодняшний, где вы стали трёхкратным лауреатом премии «Большая книга». Вообще, вы победитель многочисленных премий, ваши книги выходят в серии «Новая русская классика», в книжных магазинах – отдельные именные полки, Эмир Кустурица будет снимать фильм по вашему «Лавру», а Егор Кончаловский экранизирует «Авиатора»… Этот перечень можно продолжать. Как живётся вам с таким знанием о самом себе?
– Да так же, как и до этого. Слава писателя достаточно умеренна, и нет такого, чтобы на популярных авторов бросались на улицах. В книжных магазинах повышенное внимание, но здесь не о чем беспокоиться, мы вполне хорошо с моими читателями и почитателями сосуществуем.
– Многие ваши читатели ассоциируют вас с вашими героями. В частности, с Лавром, врачевателем. Кого-то даже чтение «Лавра» исцелило от болезни.
– Одна почтенная дама сказала, что, прочитав «Лавра», она избавилась от дисграфии, которая её постигла за пять лет до этого. И я отношусь к таким вещам серьёзно, хотя редко об этом говорю. Это всё вещи, которые Богом устроены, и моя роль здесь минимальна. Помощь приходит людям по-разному: иногда её носителем является птица, зверь, камень, человек… в данном случае книга. Никто не знает этой небесной механики.
– Известно, что у вас в роду были священники. Наверное, можно сказать, что вера в Бога перешла к вам по наследству.
– Говорят, что жизнь отдельного человека повторяет жизнь народа. И в этом что-то есть. В детстве у меня было какое-то своё самодельное язычество: я обращался к высшей силе, почему-то во множественном числе, говорил: «Помогите мне». Такое тихое стихийное язычество, которое потом у меня перешло в христианство.
– В «Лавре» написано: «Рай – это отсутствие времени». Наверное, каждый человек хочет попасть в рай, в Царствие Небесное. Но ведь ваш главный герой – это именно время. О чём вы будете писать в раю, если там не будет сюжета?
– Наверное, там слишком хорошо, чтобы писать. В раю очень много других занятий, но главное, что туда ещё надо попасть.
– А что там делают? Без конфликта, без сюжета.
– Я думаю, что там не пишут, другие отношения. Там, мне кажется, просто любят друг друга.
– Скучно, наверное?
– Нет, любить – не скучно. Это как в юности первая любовь. Понятие скуки здесь просто неприемлемо. Помню, как в студенческие годы я ухаживал за одной барышней: я мог полдня её ждать, пока она была где-то на занятиях. Проходили часы, и мне не было скучно. Мне было хорошо, потому что я думал о ней.
– Знаете, мне кажется, вас и ваших героев объединяет некая отдельность. Может, это связано с наукой. Вы говорили, что благодаря работе с древнерусскими рукописями в Пушкинском Доме вы как бы «тридцать пять лет прожили в Средневековье»…
– Может, это профессиональная деформация. Когда я прихожу в рукописный отдел, сразу не могу приняться за дело: сначала я кладу на рукопись руку, и происходит такое «выравнивание давления», как в батискафе, когда он опускается. Я жду, пока давление нынешнего времени сравнится с давлением времени тогдашнего. И вот только после этого начинаю работать.

– Дмитрий Лихачёв – знаковое имя для Петербурга, Пушкинского Дома и для вас лично. Знаю, что он даже благословил вас на брак с Татьяной Робертовной, верно?
– Да, он был посажёным отцом на нашей свадьбе. Удивительный был человек. Он был на такой высоте, когда всё видно, что называется, «с высоты птичьего полёта», – весь мир видно. Но при этом знаете, как камера фокусируется на какой-то точке, и точка превращается в дома, дома в квартиры – и так увеличение идёт до уровня портрета человека. Это такой взгляд из космоса, может быть. И при своём кругозоре он видел каждого очень чётко. Видел и помогал. Он был добродетельный человек в буквальном значении этого слова: «делать добро».
Когда он слышал, что человек вернулся из заключения, он окружал его заботой, когда он узнавал, что молодая семья в чём-то нуждается, спешил помочь. На мой взгляд, его внимательное, доброе отношение к семьям основывалось на том, что он пережил и время террора, и время блокады. Он неоднократно говорил, что не погиб только благодаря своей жене.
– Вы рассказывали, что, когда Бродского обвиняли в тунеядстве, Дмитрий Лихачёв достал ему справку о работе.
– Да, справку, что Бродский занимался по договору переводом Джона Донна для Пушкинского Дома. Другое дело, что эта справка не была принята в расчёт.
– Однако Бродского в ссылке вдохновение не покинуло, именно там появилось стихотворение «В деревне Бог живёт не по углам…».
– Замечательное стихотворение, да. Всё даёт какой-то опыт. Что ещё нам остаётся кроме опыта и памяти?
– Герой вашей книги «Чагин» говорит, что «человека нужно судить по его мечтам».
– Это немного провокативная фраза, потому что благими намерениями дорога выстлана известно куда. Эти слова звучат, скорее, как напоминание о том, что стремления человека надо тоже учитывать, такой милосердный способ оценки. Но это не значит, что нужно судить исключительно по мечтам – так мы далеко зайдём.
На мечте нет проклятия бытия. А когда мечта превратилась в поступок или в событие – она очень деформирована, она испытывает влияние со стороны людей, погоды, положения вещей на бирже, не знаю, от чего ещё – в мире всё взаимосвязано. И от мечты не остаётся ничего, мокрого места не остаётся. Но всё-таки помнить о том, что она была, нужно. И мне кажется, что по большому счёту она является оправданием даже для неудавшейся жизни.
Все оступаются, и никогда не нужно спешить осуждать. Никто не добредёт до выхода в начищенной обуви. У всех следы грязи на башмаках и подмётки стёрты.
– А о чём мечтаете вы?
– Я был большим мечтателем в детстве и юности. Жил в параллельном мире. Я не оригинален здесь, каждый человек существует в своей мифологии. Разумеется, надо быть осторожным, потому что по-церковнославянски мечтание – это сомнительное явление: некое искушение для человека, какой-то ложный сигнал ему. Но мечта в современном смысле полезна, в определённом возрасте она даёт разбег.
– Разбегаешься – и попадаешь в реальность. Тут подходит реплика вашей героини из «Чагина»: «Как страшна жизнь!..»
– Я был свидетелем того, как эта фраза произносится. Это было сказано в совершенно не соответствующей такому возгласу ситуации: на дне рождения наша знакомая вдруг крикнула: «Как страшна жизнь!..» И все замолчали, и непонятно было, что говорить, и все чувствовали, что она, в общем, права. Но, по счастью, есть и другие стороны жизни.
– Да… О другой стороне жизни: помню, как на Неделе русской литературы в Стамбуле ваш турецкий переводчик почему-то обратился ко мне, сказав: «Я бы никогда не подумал, что Евгений Водолазкин такой весёлый человек».
– Не могу сказать, что тем, кто окружает меня, всегда весело. Но юмор помогает справляться с жизнью, юмор – это дистанция.
– Телеканалу «Культура» вы поведали, что чувство юмора досталось вам от вашего прадеда Михаила Прокофьевича.
– Да, но юмор у него был на грани допустимого, он рисковал… Прадед был директором гимназии здесь, в Петербурге, а потом он пошёл добровольцем в Белую армию, а семью отправил в Киев. И уже обратно в Петербург ни он, ни его семья не вернулись, потому что здесь слишком хорошо знали, куда он уходил. Он остался на Украине простым учителем, и, поскольку бывали какие-то вечера школьные, он выступал в качестве ветерана Гражданской войны, но не уточнял, с какой стороны он в ней принимал участие. А утром он всегда поднимался с песней «Вставай, проклятьем заклеймённый…».
– Недавно я прочла, что ещё в детстве благодаря другой советской песне появился ваш первый рассказ. Однако ваша тётя рассказ не оценила, сказав, что это «нехудожественно», и тем самым на сорок лет остановила ваше творчество.
– Нет, не остановила: я пришёл к писательству тогда, когда созрел. А созрел я довольно поздно. До этого у меня были захватывающие занятия в области науки. Умберто Эко, кстати, вообще в пятьдесят лет стал писать. Но тот рассказ, о котором вы говорите, это действительно забавная история: я просто изложил своими словами песню «Тучи над городом встали». Но тётины слова – они оказались как холодный душ. Она была довольно строгой дамой, моя тётя.
– Сегодня ваша проза переведена на множество языков. В том числе напечатана шрифтом Брайля (думаю, его можно считать отдельным языком). Кстати, я живу рядом с издательством для слепых: волею судеб иногда провожаю их или на работу, или к метро. Однажды они рассказали, что подарили вам экземпляр «Лавра»…
– Да, я был в Обществе слепых, и мне вручили такой большой том «Лавра», вот он, лежит на полке. Вообще это удивительно – сосуществовать на другом языке, особенно на языке, который ты не понимаешь: китайский, японский… но когда это ещё выходит за пределы обычных языков, когда ты можешь прийти через шрифт к человеку, который не видит, но очень хорошо чувствует – это драгоценно. У этих людей есть дар прикосновения – он делает их, может быть, тоньше других.
– Да, похвастаюсь, мои рассказы в Москве тоже переведены на шрифт Брайля. А скоро Эмир Кустурица переведёт «Лавра» на язык кинематографа?
– Он обещал на днях позвонить, и мы уже в деталях договоримся, как работать. Мы довольно много общались за последний год. Я был в Дрвенграде – знаменитой деревне, которую построил Кустурица, где все улицы названы именами кинематографистов. Мы сидели в ресторане «Висконти», пили ракию и говорили о возможных постановках. Он считает, что в фильме должна быть фольклорная стихия выражена. Я искренне считаю, что из существующих режиссёров ближе его к «Лавру», по внутреннему соответствию, пожалуй, нет.
– А сейчас вы пишете новый роман?
– Начал писать, но… Когда я писал «Лавра», я полгода только обдумывал стиль. Тогда мне надо было соединить Средневековье с современностью – сделать их частью друг друга. И я понимал, что надо бы подключить архаический язык. Естественным образом возникал вопрос: кто из героев на каком языке должен говорить? В итоге получился общий язык, портрет языка за все века его существования. Методом проб и ошибок я пришёл к единственно возможному языку «Лавра». А язык – это очень важно. Как известно, в литературе форма – это содержание. Сейчас я в поиске правильного языка для нового романа.
– Вы не раз говорили, что «Чагина» диктовали Татьяне Робертовне. Как это замечательно, когда жена, можно сказать, и соучастник, и редактор.
– Я думаю, что Таня – это моё везение. Мы тридцать пять лет вместе – и дома, и на работе. Меня удивляет и радует вот что: мы друг друга великолепно знаем, но у нас не становится меньше интереса друг к другу, потому что мы продолжаем развиваться. Это не стояние на месте, а постоянное удивительное движение вперёд: смена статуса, смена возраста… Перемен много в жизни. Сочетание переменного и постоянного.
– Мне сейчас вспомнились слова апостола Павла: «Любовь никогда не перестаёт…»
– Да. Она видоизменяется. У всякой любви есть идеальное начало, даже у самой плотской любви всё равно есть какая-то другая линия – верхняя, которая земли не касается. И вот эта верхняя линия укрепляется с течением жизни. И я верю в то, что люди, которые друг друга любят, встретятся за гробом. Я в это твёрдо верю.
– На небесной линии Санкт-Петербурга.
– Именно на этой линии, да. В «Лавре» душа Арсения спрашивает: «Узнаем ли мы друг друга там?» Ответ: «Да, узнаете, если сохраните в себе эту любовь». Потому что, если люди не любят, зачем им встречаться и узнавать друг друга?
Со временем чувство ответственности только усиливается. Когда умер отец моей жены – удивительный был человек: очень светлый, замечательный, – я вдруг почувствовал, что для неё я должен быть ещё и отцом, не только мужем. Для меня это очень важная тема, её можно завершить многоточием…