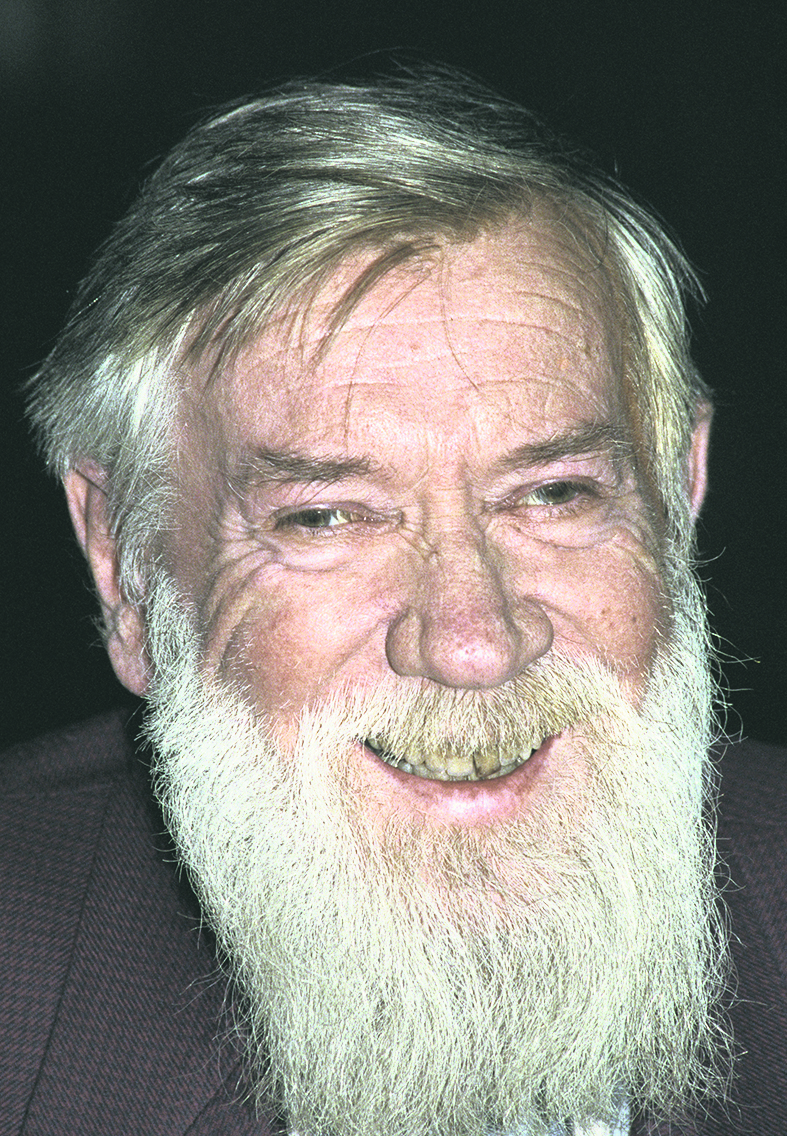
Виктория Шохина
Странно читать его последнее слово на суде – как будто это не речь подсудимого, которому грозит серьёзный срок, а лекция о литературе, о её сути, смысле и предназначении. Вместо того чтобы каяться, он объясняет: «...слово – это не дело, а слово; художественный образ условен: автор не идентичен герою». И даже если повесть написана от первого лица, это не значит, что она автобиографична. Но все объяснения пропадают втуне, не помогают и ссылки на Достоевского, Горького, Салтыкова-Щедрина. Обвинению это не нужно и неинтересно.
На претензии «...как он тут писал о социалистическом реализме с марксистских позиций, а там – идеалист», – подсудимый только усмехается: «Если бы я мог писать с идеалистических позиций здесь, я писал бы так здесь». И таким образом признаёт себя – другим. К тому же, приводит цитату из своего рассказа «Пхенц»: «Подумаешь, если я просто другой, так уж сразу ругаться…»
...Отсылка к «Пхенцу» была вызывающая! Этот неопубликованный рассказ вполне могли присовокупить к делу как порнографический и глумящийся над классиком. Главный герой его – инопланетянин Пхенц, живёт в коммуналке под видом скромного советского счетовода-горбуна. Его соблазняет соседка по квартире. Описывая её прелести, Пхенц с удивлением (инопланетян же!) отмечает внизу живота нечто похожее на «мужское лицо, пожилое, небритое, с оскаленными зубами. <...>Должно быть, отсюда происходит двуличие женской натуры, про которое метко сказал поэт Лермонтов: «прекрасна, как ангел небесный, как демон, коварна и зла». Так Синявский смеялся, когда, казалось бы, смеяться было невозможно. И – рискованно.
Андрею Синявскому дали семь лет, Юлию Даниэлю – пять лет заключения в ИТК строгого режима по статье 70 «Антисоветская пропаганда и агитация» УК РСФСР 1960 года. Вины своей они не признали – исключительный случай в делах подобного рода. Им было тогда по 40 лет. Даниэль был инвалидом войны – у него были прострелены обе руки.
Их исключили из Союза писателей СССР. Профессора филфака МГУ каялись, что «знали Андрея Синявского», но не распознали, что есть «другой Синявский». В Институте мировой литературы его перевели из старших научных сотрудников в младшие (что удивило даже следователя). На партийном бюро ИМЛИ Светлана Аллилуева говорила: «Он нам наплевал в лицо... Это удивительно, чтобы человек был столь отвратительным двурушником. Я тоже не читала его произведений, но знаю со слов тех, кто читал». А меж тем дочь Сталина была в Синявского влюблена!
Но была и демонстрация на Пушкинской площади в их защиту. Было Письмо 62 писателей с просьбой разрешить взять осуждённых на поруки. Было много поступков, достойных уважения.
Первой публикацией Синявского, фигурировавшей в деле, стал трактат «Что такое социалистический реализм?» (1957), появившийся без имени автора во французском журнале Esprit в феврале 1959-го. Владимир Набоков, прочитав трактат, отметил проникновение в суть предмета и блестящее изложение (добавив, что сам он то же самое на протяжении 20 лет рассказывал своим студентам). Но следствию и суду трактат не понравился.
Этот ироничный, местами гротескный и при этом точный в определениях и выводах текст выходит за рамки литературоведения. Речь в нём идёт не только о социалистическом реализме, но обо всей советской культуре, всём обществе, живущем ради одной цели. Цель эта – коммунизм, «мы кинулись к ней, ломая преграды и бросая по пути всё, что могло замедлить наш стремительный бег. <…> Чтобы навсегда исчезли тюрьмы, мы понастроили новые тюрьмы. Чтобы пали границы между государствами, мы окружили себя китайской стеной. Чтобы труд в будущем стал отдыхом и удовольствием, мы ввели каторжные работы. Чтобы не пролилось больше ни единой капли крови, мы убивали, убивали и убивали!». Пассаж этот не раз припоминали ему во время следствия и суда.
По мысли автора, социалистический реализм погубила эклектика. Писатели пытались одновременно следовать традициям реализма XIX века и – строгим нормативам соцреализма. В результате получалось «полуклассицистическое полуискусство не слишком социалистического совсем не реализма». А нужно было всего-то – следовать нормативной эстетике классицизма, ёрничал автор! Заканчивал он свой трактат уже всерьёз – надеждой «на искусство фантасмагорическое, с гипотезами вместо цели и гротеском взамен бытописания».
Фантасмагорической, с гротеском вместо бытописания была его повесть «Суд идёт», отправленная на Запад в 1956 году, но опубликованная под именем Абрама Терца только в 1959-м (издатели хотели вперёд пропустить «Доктора Живаго»). Повесть, даром что фантастическая, с ужасающей точностью предсказывала, что произойдёт с Синявским через несколько лет: «Стука я не расслышал. Двое в штатском стояли на пороге. Скромные и задумчивые, они были похожи друг на друга, как близнецы. Один осмотрел мои карманы. Листочки, разбросанные по столу, он собрал аккуратно в стопку и, послюнявив пальцы, насчитал семь бумажек».
Далее следовало уничтожение слов, как в страшной сказке: «...он провёл ладонью по первой странице, сгребая буквы и знаки препинания. Взмах руки – и на голой бумаге сиротливо копошилась лиловая кучка. Молодой человек ссыпал её в карман пиджака. Одна буква – кажется, «з», – шевеля хвостиком, быстро поползла прочь. Но ловкий молодой человек поймал её, оторвал лапки и придавил ногтем». Особенно жалко буковку, которая пыталась убежать...
В этой повести Автор выступал в роли персонажа, отвечающего за написанное по всей строгости законов социалистического реализма и уголовного кодекса: «Я прибыл в тот лагерь позже других, летом пятьдесят шестого. Повесть, для завершения которой не хватало лишь эпилога, стала известна в одной высокой инстанции… – сообщал он в Эпилоге, – меня всё-таки привлекли к дознанию за клевету, порнографию и разглашение государственной тайны...» Через десять лет, в 1966 году, он осуждённый за такие же «преступления», прибудет в мордовский Дубролаг.
Под псевдонимом «Абрам Терц» во Франции вышли также: «Фантастические повести» («Суд идёт», «Гололедица», «Ты и я», «Квартиранты», «В цирке», 1961), повесть «Любимов» (1963). В США – «Мысли врасплох» (1966). Псевдоним был из блатной песни. «Абрашка Терц, карманник всем известный/ Гостей созвал,/ И сам напился пьян ». Синявский и после лагеря с удовольствием им пользовался.
Самым громким сочинением лагерного периода стали «Прогулки с Пушкиным». Книгу эту Синявский отсылал частями в письмах жене. И это притом, что его использовали только на физических тяжёлых работах. Так, в условиях полной несвободы и тяжёлого труда рождалась абсолютно свободная книга, лёгкая, весёлая. Вопреки парадным портретам и одам в честь поэта, которыми изобиловала советская пушкинистика. (В лагере также были написаны: «Голос из хора», «В тени Гоголя» и «Иван-дурак.»)
Синявский называл «Прогулки...» своим завещанием: «…лагерь – это несколько предсмертная ситуация. В буквальном или метафорическом смысле слова. «Прогулки с Пушкиным» – это продолжение моего последнего слова на суде, а смысл последнего слова состоял в том, что искусство никому не служит, что искусство независимо, искусство свободно. И Пушкин для меня как раз образец чистого искусства», – говорил он в интервью Джону Глэду.
Он освободился в 1971 году досрочно, был помилован без признания вины. И вскоре Синявские эмигрировали. «Прогулки с Пушкиным», опубликованные в Лондоне в 1975-м под именем Абрама Терца, вызвали в русских эмигрантских кругах волну нападок на автора. Прицепились к «тоненьким эротическим ножкам», на которых Пушкин, по слову Абрама Терца, «вбежал в большую поэзию и произвёл переполох», и ничего больше знать не хотели. А там было много заслуживающего внимания и осмысления: например, «Эротика была ему школой – в первую очередь школой вёрткости, и ей мы обязаны в итоге изгибчивостью строфы». Или: «На Пушкина большое влияние оказали царскосельские статуи. Среди них он возрос и до конца дней почитал за истинных своих воспитателей». Или: «Все темы ему были доступны, как женщины, и, перебегая по ним, он застолбил проезды для русской словесности на столетия вперёд».
Оказалось, что стилистические разногласия у Синявского были не только с советской властью, он и в эмиграции был другим. После «Прогулок...» против него развернулась целая кампания! Его называли «русофобом», «фашистом», «последователем расовых теорий Розенберга», обвиняли в глумлении над русской классикой. Всё это очень напоминало обвинительные речи, произнесённые в Советском Союзе. Один идиот даже провозгласил: «Смерть Синявскому!» Когда Синявский читал в Колумбийском университете лекцию о протопопе Аввакуме, перед университетом пикетировала дама с плакатом на груди: «Стыд и срам,/Товарищ Абрам!»... В защиту Синявского выступил французский славист Мишель Окутюрье – в октябре 1976 года он прочитал перед русским кружком Женевского университета доклад «Второй суд над Абрамом Терцом». А в 1981-м повторил этот доклад на конференции славистов в Лос-Анджелесе. Сам Синявский говорил, что, «при всех бытовых тяготах, душе его в лагере было намного вольготнее», чем в эмиграции.
В России выход «Прогулок ...» тоже сопровождался скандалом. «Синявский хуже Дантеса!», – заявил Станислав Куняев на съезде Союза писателей и потребовал увольнения главного редактора «Октября», где был напечатан отрывок из книги. Но зато «Вопросы литературы» и Пушкинская комиссия ИМЛИ АН СССР организовали серьёзное обсуждение «Прогулок...», на котором было высказано много разумных суждений (1990, №7). Приведём хотя бы слова известного литературоведа Сергея Бочарова: «Говорят: глумление и поругание пушкинского образа, а я читаю и вижу: апология и восторженный дифирамб».
...Последнее сочинение Абрама Терца – «Кошкин дом. Роман дальнего следования» (опубликован посмертно в журнале «Знамя», 1998, № 5). Герой его чудак, бывший учитель словесности Донат Егорыч Бальзанов бродит по заброшенному особнячку (который называет Кошкиным домом) и выходит на след Колдуна. Для него Колдун – источник зла, он вселяется в разных людей, и они начинают сочинять. А «зараза сочинительства» губит всё живое. И вот на страницах романа возникают преступные элементы со своими текстами – от Пушкина до Солженицына. Мелькает где-то вдали и сам Синявский с лагерными записками. Известный мем: «Россия – самая читающая страна в мире» Абрам Терц развивает до логического предела: «Россия – воображаемая страна. А всё оттого, что слишком много читаем...»
Среди старых бумаг Бальзанов находит загадочный текст «Золотой шнурок», состоящий из одних диалогов: «– У вас ли мой золотой шнурок? – Он у меня. – ... Хочется ли вам спать? – Да, мне спать хочется. – Жарко ли вам? – Нет, мне холодно...» (это образец ready made текста, взятый из старого «Ключа к русской грамматике для французов»). Однообразные и нелепые диалоги золотым шнурком скрепляют весь роман, заставляя Бальзанова биться над их загадкой. Но только в конце приходит к нему озарение: это «пратекст, установочный документ для колдунов всей мировой литературы». В самом деле: из «У вас ли мой прекрасный башмак?» Гоголь сварганит Башмачкина; из «Какие у вас карты?» возникнет «Пиковая дама» и т. д.
Умирает Колдун, сносят Кошкин дом, миру вроде бы больше не грозит «зараза сочинительства», и Бальзанов может вздохнуть с облегчением. Но тут мальчик Андрюша говорит: «Я буду историком... А повезёт – писателем». Таков последний роман Синявского-Терца. Трагический и весёлый, фантасмагоричный и потому абсолютно реальный. Роман о литературе, которая и преступление, и наслаждение. И – риск для сочинителя, который всегда еретик, преступник, всегда другой. «А без риска какой интерес?», – говорил Абрам Терц.
