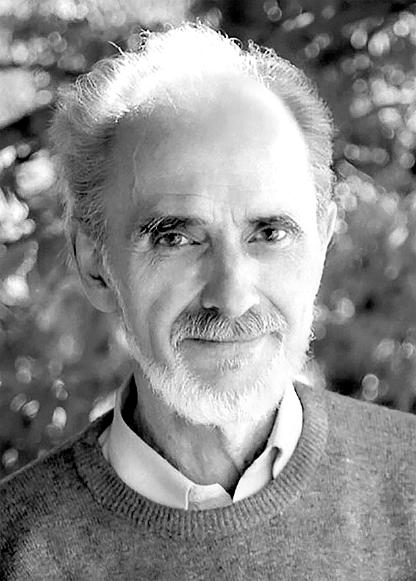
Самый тихий из «тихих лириков», как называл Василия Казанцева Вадим Кожинов, прожил долгую негромкую жизнь вдали от столбовых дорог, от суеты литературных ристалищ, от погони за славой… Хотя сама земная его жизнь была полна и драматизма, и скорбных событий, всего того, от чего нередко люди приходят в отчаяние…
Но странная и поучительная особенность: писатели, постоянно соприкасающиеся с природой, сохраняют в своём творчестве душевную чистоту и нравственное здоровье. Вспомним Пришвина, Соколова-Микитова, Аксакова… Вспомним людей с другого континента – не сегодняшнего пошлого разлива американцев Г. Торо, Р. Эмерсона… Нетрудно заметить сходство в этих писателях – несуетное, целомудренное восприятие мира, целостность и стройность души, сохранившей себя в заповедном обществе природы. Беседы с природой, словно беседы с Сократом, учат философскому отношению к жизни, к духовным и материальным ценностям. К сожалению, в наш раздёрганный и расчётливый век мы, подобно блудному сыну, всё дальше и дальше уходим от лесов и лугов, от чистых озёр и речек, от мудрости, от бескорыстия земли, от звёздного неба над головой. Может, ещё и поэтому всё испорченней и неисправимей становится род человеческий. Но однажды всё-таки он вспомнит о единственном спасении своём и вернётся к истокам, и, словно измученный, опустошённый возвратившийся блудный сын с картины Рембрандта, встав на колени, припадёт к тёмным, всепрощающим рукам родной Природы, и жизнь его снова наполнится смыслом и светом!..
Василий Казанцев – один из немногих в нашей литературе, в нашей поэзии, так же как Игорь Шкляревский, Станислав Куняев, Анатолий Чиков, Иван Киуру, кто оставался собеседником Природы…
Её монологи, диалоги с ней, её память вошли в стихи Казанцева. Нет, поэт не отгораживался от проблем века, от страданий человечества, просто он выбрал самый естественный и неискажённый угол зрения на мир, внешне, быть может, более спокойный, но внутренне полный трагедии, которая, по слову Гейне, проходит через сердце поэта. Ведь от чего многие наши беды, проблемы, катастрофы? От неумения, от нежелания, от невозможности понять. Отсюда один шаг до озлобления, взрыва, одиночества, жестокости, до современного, как мы видим сегодня, всеобщего опасного безумия. Природа же учит главному: пониманию и, следовательно, сохранению в себе человеческого. Василий Казанцев дорого ценит это качество, хотя и не скрывает, как трудно его сберечь, сохранить в себе:
И я бы волю чувству дать
Сумел со щедростью завидной.
Я мог бы плакать и рыдать
И до упаду хохотать.
Да только почему-то стыдно…
Это не излишняя сдержанность, сухость, а всё те же уроки земли, её вечной, непрекращающейся работы, её стыдливой воздержанности от показных истерик, театральных эффектов. И в стихах Казанцева нет клятв, проклятий, обид, но есть удивительное приятие жизни, соотношение себя с нею; есть изумительная, чисто русская черта, выражающаяся в желании не быть назойливым, навязчивым, лишним!.. Это поэзия редчайшего такта, душевной святости перед родным, перед жизнью. Поэт не ищет какой-то экстраординарности, исключительности, ибо знает бесценный секрет бытия: человек просто живёт, просто чувствует, так же, как дышит, смотрит, мёрзнет, а всё экстраординарное – чрезвычайно, аномально, противоестественно.
В окне листва. И тень от крыл –
Молниевидная, сквозная.
…И я тут жил. И вечен был.
И вечность протекла земная.
Непостижима всё же тайна простоты! Как такими ненавязчивыми, скромными средствами достигается глубокое воздействие на наши чувства? Думается, что весь смысл в том, что многие стихи В. Казанцева могут отзываться лишь в тех, в чьих душах ещё сохранились собственные воспоминания о картинах природы… Картина откликается на картину, отблеск луны на отблеск луны, запах скошенного сена на запах сена… У кого нет этого в душе, кто не накопил это в собственной жизни – для того описания этих картин такие же далёкие и неправдоподобные, как лунные или марсианские ландшафты – не волнующие и не согревающие сердце!.. В этом смысле поэзия Василия Казанцева – для «посвящённых», если воспользоваться непредосудительным значением данного слова. Разве «непосвящённый» – сам не переживавший, не перечувствовавший – сможет до конца понять всю красоту простоты хотя бы вот такой картинки:
Смородина поспела, переспела.
Поджаренно усохла на корню.
Среди зимы подголублённо-белой
К губам сухую ветку приклоню…
И даже ритм стихов, даже синтаксис в них – как вдох и выдох, переменчивый, отзывчивый на любое изменение тепла и холода, ветра и затишья:
Невнятно-близкое дыханье
Кустов. Воздушна, молода,
Вода. Лицо. В лице – пыланье
Восторга, ужаса, стыда.
Может показаться безлюдным такой пейзаж, но выбран он не случайно, ибо только в этом контексте природы лучше думается, можно отдохнуть от многолюдья, побыть наконец наедине с собой, со своими мыслями, чувствами, сомнениями. Здесь нет антологической отстранённости, античного холодка некоторых стихов Батюшкова, Майкова, Фета… Чаще всего они создавали не живой мир, а его «копии» с классически строгих образцов. Окультуренная и выверенная с точностью геометра природа в их стихах блистала искусственным светом. В стихах В. Казанцева всё измеряется душой поэта, личным опытом и живым теплом, глубиной переживания и сочувствия. О чём бы ни писал поэт – о роднике, о листе картошки, о деревьях, о стоге сена, о птичьей стае, об уходящем лете, – как-то уж так получается, что всё выходит рассказ о человеке. Вот говорится о том, как трудно из земли, из тьмы к свету пробивается обыкновенный росток, но каким содержанием наполняется это движение, какой прекрасной кажется нам его победа, достойная быть занесённой во все философские, гуманистические реляции, если бы таковые имели место в истории!
Пробьёт заслон последний – выйдет
Туда, где путь ветрам открыт.
И в предрассветной мгле увидит,
Что свет – внутри его горит.
Как же справедливо и верно, что во многих лучших стихах Василия Казанцева тихим и мудрым сиянием горит тот же свет. И сам этот хрупкий зелёный нежный росток светит нам тоненькой спасительной свечкой, словно бы поставленной на помин души людей заблудших, отвернувшихся от истинного, настоящего, подлинного, что ещё осталось на земле в шуме ручейка, в прохладе леса, в послегрозовом озоне!.. Но этот росток – и наша последняя надежда, наша защита. Только не дать бы ему погаснуть. Василий Казанцев пытается своим творчеством хранить свет природы, притягивать к нему наши очерствевшие, тёмные сердца. Не потому, что ему больше не о чем было писать. Тематически поэт достаточно разнообразен, филигранно в его стихах художественное воплощение этого разнообразия. Но в мире, где все пути двадцатого и двадцать первого века разбегаются, уводят нас друг от друга, разделяют и разлучают, поэт сделал выбор, он нашёл Главное, к чему рано или поздно ради своего спасения должны прийти все люди, ибо, как сказал Генри Торо в своей знаменитой книге «Уолден, или Жизнь в лесу»: «В природе всё объединено родством».

