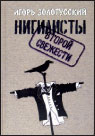Нигилисты второй свежести. Раздумья на исходе эпохи. – Иркутск: Издатель Сапронов, 2008. – 400 с.
Когда мне встречаются книги «Издателя Сапронова» из Иркутска, я начинаю думать, что серьёзная литература бежит из столицы, находит приют в далёкой провинции. Иркутяне выпустили сборник рассказов Юрия Казакова «Долгие крики», собрание сочинений Валентина Распутина, «Послушание истине» Саввы Ямщикова, «Год чуда и печали» Леонида Бородина.
Сегодня у меня на столе новая книга Игоря Золотусского «Нигилисты второй свежести. Раздумья на исходе эпохи».
Что это: критика, публицистика, дневники, мемуары? Не только книга в целом, но и каждый отдельный текст несёт в себе смешение жанров. Автор называет это «свободным плаванием»; о критике, которая принесла ему известность, уважение, он говорит: «Я ушёл из этого жанра… Ушёл я в конце 80-х, когда критика перестала быть интересной для всех и стала пищей для специалистов».
Часто ли в России критика воспринималась наравне с другими жанрами литературы? Самая непритязательная беллетристика почти всегда ставилась выше даже первоклассной критики. Исключение составляет разве что русская эмиграция, когда европейское культурное влияние позволило развиться ряду выдающихся критиков, и жанр был поставлен на неоспоримую и заслуженную высоту. Что же касается конца 80-х… В ту пору общество посвятило себя хищничеству и выживанию, что, увы, тотчас отразилось и на литературе. В общем, она превратилась в балаган, где царят – и царят до сих пор – площадные нравы, где, как и положено балагану, учитываются все низменные вкусы толпы.
Когда Золотусский говорит о напряжённой многолетней работе над книгой о Гоголе, о трудностях, невозможности затем вернуться к текущей литературе, думается, именно в этом случае он называет истинную причину расставания с критикой. Дело не в том, конечно, что он «отстал», «выпал из литературного процесса», – после гоголевской глубины и мощи, видимо, «процесс» оказался несносным, когда базарность соединилась с традиционным для российской литературы XX века провинциализмом духовным и художественным. (Вспомним, кстати, своеобразную традицию советской ещё эпохи: Юрий Селезнёв погрузился в мир Достоевского, Михаил Лобанов написал книги о С.Т. Аксакове и А.Н. Островском, Вадим Кожинов обратился к Тютчеву, затем и вовсе переквалифицировался в историка.)
Всё-таки: отказ от критики, а вместе с нею и от текущей литературы, – оправданная брезгливость или малодушие?
Как бы там ни было, можно утверждать, возвращаясь к Золотусскому, определённо: общая судьба отечественной литературы была и осталась для него важнейшей темой существования. Поэтому новая книга, при всей внешней калейдоскопичности её, при всей жанровой размытости помещённых в ней текстов, имеет нерушимое внутреннее единство. Немалое обаяние сообщают ей и лично-авторские черты. Привитая университетским образованием широта и строгость мышления, органично усвоенное знание классической литературы, прирождённый глубокий ум. Другое редкое качество, которым обладает автор, трудно обозначить словами. Очень приблизительно, перефразировав Флобера, я мог бы сказать «maturite` des sentiments» – зрелость, воспитанность чувств, т.е. соразмерность душевного отклика тому или иному явлению.
Это тем более ценное качество, что книга Золотусского полемическая. Она проникнута непреклонным и ровным противлением лжи и невежеству, которые, судя по названию книги, автор и определяет как новый нигилизм и связывает его – исходя из подзаголовка – с конкретной эпохой.
Конечно, наша эпоха отличается особым натиском «восставших масс», вытаптывающих храмы искусства. Вместе с тем Золотусский осознаёт (образ «второй свежести»), что это не идеалистический нигилизм Базарова, не религиозный бунт Ивана Карамазова, не экзистенциальные сомнения Кириллова. Речь идёт о неизбывных комплексах образованца, источнике его цинизма и зависти, о тщеславии и алчности дельца от культуры, наконец, о самодовольстве нового варвара, чьи ничтожные страсти диктуют простоту, которая «хуже воровства».
Золотусский видит в этом прежде всего исторический фактор, неблагоприятные условия и пр., т.е. обстоятельства, сообразные с привычным гуманистическим мировоззрением. Но чем теснее сталкивается Золотусский с отрицанием «цветущей сложности» духовной жизни страны и мира, с вульгарным игнорированием роскоши и аскетизма, с пренебрежением к такту, тем мрачнее его подозрения. И всё чаще он склоняется понимать хамство как вневременную человеческую черту, плебейство как явление прирождённое. Рассматривая «Портрет на фоне эпохи» В. Войновича, глумливую книжку о Солженицыне, он замечает: «В ней обида не только на конкретное лицо, но и на понятие величия вообще… Говорят, для камердинера нет великого человека».
В продолжение темы интереснейшим представляется эссе «Высший свет: от Шульгина до Лукина». Здесь самая тема подвигнула автора к большей решительности в мышлении. Здесь он ближе, чем где бы то ни было, к различию сословия и расы (в том первоначальном, чистом смысле, в каком слово означает породу). Характеризуя сегодняшнее высшее общество, Золотусский отвергает политкорректность: «Это свет-люмпен, набранный из низов по мере их способности заплатить за входной билет… «Свет», образовавшийся в десять лет, не чета свету, складывавшемуся столетия. Он – чёрная кость… Свободным, наверное, надо всё-таки родиться».
Литература для Золотусского – явление социальное, нравственное, идеологическое, даже религиозное. Касаясь этих составляющих, он неизменно взыскует истины. Эстетическое совершенство, гармония, «дух музыки» – в эллинском смысле – мало его волнуют. В незримой сфере художественного вкуса его сопротивление наиболее слабое, и подчас он «сам обманываться рад». Как в случае с В. Астафьевым, чей озлобленный, ущербный в художественном отношении роман «Прокляты и убиты» находит у Золотусского высокую оценку. Как в случае с Н. Лесковым, которого он упоминает многократно и лестно, не желая замечать сомнительный вкус автора (неслучайно высказывание о Лескове Л. Толстого: «Писатель вычурный, вздорный»).
Между тем эстетический взгляд мог бы значительно обогатить и углубить книгу, ведь плебейство нигде не проявляет себя так вопиюще, как в слоге, интонации, поступи, нигде не развенчивает себя так очевидно, как в области вкуса.
Не будем, однако, чрезмерно, неуместно требовательны. Книга предварительная, одна из первых в сегодняшнем противостоянии хамству, и уже будит мысль, совесть, обостряет слух и то особое чувство несовместимости в одном сознании явлений «высшей и низшей культуры» (Ф. Ницше).
Гоголь или Донцова? Лев Толстой или Оксана Робски? Достоевский или X, Y, Z?
Сокровенный смысл книги – мягкий, но уверенный отпор торжествующей черни и неминуемый для каждого из нас выбор.
Код для вставки в блог или livejournal.com:
 
Истребление хамовКогда мне встречаются книги «Издателя Сапронова» из Иркутска, я начинаю думать, что серьёзная литература бежит из столицы, находит приют в далёкой провинции. |
| КОД ССЫЛКИ: |

 Илья КИРИЛЛОВ
Илья КИРИЛЛОВ