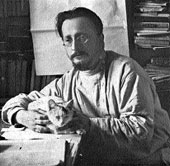 У каждого нашего журнала-«толстяка» своё лицо. У «Москвы» – добродушный, с лукавинкой, визаж Деда Мороза, припасшего заветный гостинец. Да такой, что вовек не забудешь. В самом деле: «Жизнь Арсеньева» Бунина, «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Защита Лужина» Набокова, «Няня из Москвы» Шмелёва – это ли не памятные дары.
У каждого нашего журнала-«толстяка» своё лицо. У «Москвы» – добродушный, с лукавинкой, визаж Деда Мороза, припасшего заветный гостинец. Да такой, что вовек не забудешь. В самом деле: «Жизнь Арсеньева» Бунина, «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Защита Лужина» Набокова, «Няня из Москвы» Шмелёва – это ли не памятные дары.
А ещё были: художественная проза философа Лосева, публицистика Ильина, письма Розанова и так далее, и так далее. Запас в стране, зажатой «кухаркиной» цензурой, накопился большой.
И вот новый – заждались! – сюрприз. В сентябре-октябре напечатан извлечённый из архива роман Дурылина «Колокола».
Сергей Николаевич Дурылин (1886–1954) – приметное имя среди тех, кого взрастил Серебряный век отечественной культуры. В конце своей многострадальной жизни в Болшеве, близ церкви Козьмы и Дамиана, из обломков снесённого в Москве Страстного монастыря он выстроил дом, куда к нему съезжалась вся «старая Москва» – писательская, учёная, духовная, театральная.
Кем же он был, этот «схимник», написавший десятки книг, иные из которых до сих пор не опубликованы? (Особенно желалось бы видеть труды о его любимцах – Леонтьеве и Лескове.) До революции – православный очеркист (сам Розанов хвалил в печати его «юно и горячо написанные книжки» – о «Руси прикровенной»). После неё – священник (сначала явный, потом тайный). Принуждённый – «живота ради» – снять и спрятать в шкаф рясу, он в советское время стал известен прежде всего как литературовед (книги о Лермонтове, о русских писателях у Гёте) и театровед (труды об Островском, актёрах Малого и МХАТа и многое другое).
Но это была только видимая часть айсберга. Основное творилось попутно, «под спудом». Имевший доступ к неопубликованным рукописям своего друга и духовника Нестеров писал в тридцатые годы одной из знакомых: «Быть может, пройдёт много лет, когда он будет печататься. А между тем многое из написанного им – прекрасно, оригинально, глубоко по чувству и совершенно по форме… Им хорошо усвоено всё лучшее, что дала старая школа наших художников слова…»
Лет с тех пор прошло и вправду немало. И только в последние годы начинает печататься потаённый Дурылин. Задним числом, спустя полвека, мощно наращивая свой рейтинг. Недавно вышли в «Молодой гвардии» его мемуарно-дневниковые записи «В своём углу», сразу определившие место этого гонимого скитальца и затворника где-то рядом с Розановым («Опавшие листья») и Пришвиным («Дневники»). А только что опубликованные «Москвой» «Колокола» с несомненностью выдвинут его в пару к Шмелёву («Лето Господне»).
В пасхальную ночь 1908 года двадцатидвухлетний литератор Сергей Дурылин вышел на Праздник Праздников к храму Христа Спасителя. И встретил на набережной восемнадцатилетнего гимназиста, бормочущего стихи. Познакомились. Жившего поблизости юношу звали Борис Пастернак. Тот смущённо признался: «Я, знаете ли, тоже люблю колокольный звон. Над водой он ещё лучше…» Избирательное сродство душ. Когда через сорок с лишним лет поэт начнёт свой Рождественский цикл для запрещённого романа, Дурылин приблизится к завершению своего «подспудного» художественного полотна. Названного «по Диккенсу» – «Колокола».
Есть выразительное фото его юных лет. Он сидит вполоборота за письменным столом, над которым – меж книжных полок – портреты любимцев. Гоголя – целых два: один, большой, в рамке, другой поменьше так. Это кажется странным. Ведь как раз в эти годы Дурылин, вослед Розанову, «отрицал» Гоголя – за невнимание к картинам и лицам Святой Руси. А любил больше всех Лермонтова – за «лучезарность» («По небу полуночи ангел летел…»). И утверждал, что любую страничку «Капитанской дочки» он, безусловно, предпочтёт всей эпопее «Война и мир».
Но своя-то проза рождается не из ума, а из художественного инстинкта. И когда Дурылин стал писать свою прозу, он увидел перед собой затылки тех, кого породил Гоголь. То есть Лескова, Мельникова-Печерского, Андрея Белого, Ремизова.
Ремизова особенно. Ведь Дурылин начал свой роман в конце двадцатых годов, когда пышным цветом взошла «орнаментальная» проза, отцами которой и были Ремизов с Белым. Но Белый для Дурылина слишком резв и резок, порой и болезненно назойлив (хотя без памяти о «Серебряном голубе» в «Колоколах» не обошлось); у Ремизова более плавный, родной ему лад. Дело не в заимствовании приёмов, а именно в ладе. Хотя бы – в напевно ямбовых, с переходом в расплывчатый анапест и дольник, зачинах («запевах», по Ремизову, или «начальных словах»). Они же задают тональность всей вещи. Стиховедческие или музыкальные термины тут уместны: ведь волнообразный «орнамент» в почти, а иногда и полностью ритмизованной прозе организован как симфония или соната.
Вообще достоинство всякой прозы недурно бы измерять стихами: если наслаждение соизмеримо, то, как в случае Дурылина, «художество» состоялось.
Однако же его проза не менее того живописна. Красок тут – половодье. Для филолога («словолюба») – истинный праздник, вроде ярмарочного гулянья на Масленицу.
Сам Дурылин любил устанавливать «парность» известных писателей и художников. «Как Врубель – парный художник к Лермонтову, так Федотов – к Гоголю» («В своём углу»). Так вот, пара к нему самому даже не близкий друг (и духовное чадо) его Нестеров, а скорее, Кустодиев. Очарованная и чаровная пестрядь русской провинции. Где всё лепится вроде как и наперекосяк, но в полной и ладной согласованности несуразиц и в разные стороны кренов.
Метод «русопятого» Дурылина, однако, парадоксальным образом иностранный: пуантилизм. Как, по-своему, у знаменитого француза – художника Сёра. Никаких размашистых мазков, связывающих повествование в единый сюжет. Точечное нанизывание ярких ядрышек-историй. Как будто и не связанных между собой, этаких самостоятельных микроновелл. Нужно отойти от полотна, взглянуть на него откуда-нибудь сбоку, чтобы проступил ход времени, здесь запечатлённого. Сбоку или сверху – с точки зрения если не вечности, то взывающих к вечности колоколов на колокольне.
И тогда предстанет в бесконечном разнообразии столетняя – от Александра Благословенного с Аракчеевым до патриарха Тихона с Лениным – жизнь губернского города Темьяна. Да, отчасти и тёмная жизнь со всеми её невзгодами и тягомотинами, но – неустанно просветляемая «светозарным правоверием»: церковной службой, молитвой, колокольным звоном.
Долгое время – вполне слаженная жизнь, наезженная колея. Быт и бытование простого в основном, но занятного люда. Как раскрашенные фигурки на часовой башне, поочерёдно выступают они на передний план повествования: иереи и иереицы, маляры-мазилы и оралы-певчие, сапожники и садовники, купцы и стряпчие, писари и конторщики, будочники и булочники, зеленщики и бакалейщики, столяры и плотники, пчеловоды и переплётчики, начинающие звонари и маститые, с причудой, «звонопевцы». А в декорациях с розовыми да жёлтыми церквями да соборами утопающие в садах домишки о три или четыре окна с непременной геранью на подоконнике да клеткой близ оного, где трещат и пленькают канарейки и горехвостки, свистят синицы и зяблики, а то и вовсе заведётся какой-нибудь заморский «попугай со словесностью». «Жизни мышья беготня». Но сверху-то нежно и накрепко укрытый, перепелёнутый мир – от века струящимся колокольным звоном.
И колокола над городом – как живые. У каждого своё имя, за которым своя биография. Не абы как, неслучайно названы: Воеводин, Голодай, Разбойный, Плакун, Княжин, Наполеон, Разгонный, Васин, Соборный. История каждого из них – тоже «пуанта». И «глас звенения» у каждого свой. У кого печаль, у кого ликование. Один звон – «ангельские лёгкие стопы», другой звон – «всем чертям разгон». На Благовещение, когда является народу штатный «птицевыпускатель», поп-расстрига Серафим Иваныч Геликонский, – звон радостный, лёгкий, весело-весенний. На Великий пост – неуимчиво покаянный. А уж как духоподъёмен золотой клич пасхальный – не металла звон, а «светлоседмичный хмель»!
Колокола у Дурылина звенят-позванивают чуть не вслух; аллитерируя так, что куда там Бальмонту. С оттенками, на которые способен только русский язык. Звон тут бывает вот какой: зазывный, зовкий, зовучий, узывчивый, размывчивый, золотой, золотистый. То буйный, буреломный, а то – пенливый, уповательный…
Колокольный глас, коему из поколения в поколение внимают в отведённый для души час горожане, не просто живой. Он – «человечней человечьего». Ибо в человечьем-то «и ложь, и хрип, и пёрх». А в медном да серебряном – чистая печаль и чистое умиление. Чистая сущность. Человечий глас, что доносится снизу, «о Боге вестит, а пятачком звенит». А к Богу взывать надо несуетно, незамутнённо. Потому и посредствуют колокола между обременёнными грешками людьми внизу и Начальником Тишины, то есть Господом наверху. Напоминая о Нём людям, чтобы не оскотинивались. Звон таков, что «возвращает и прохвоста в человека». Потому и влечёт, и манит – как мечта. Душа тянется.
Колокол выше и учёной премудрости. «Кто книгой учён, тот умом помрачён». А тут, вот он – «ум умов». Прямиком входит в сердце.
И во служение к колоколам призываются люди особенные, сокровенные. Отбираемые чем-то, что выше настоятелей и наставников. Дабы «не уронить городскую достопамятность». И не только городскую, но – ясен намёк – и общерусскую.
Так и течёт целый век русская жизнь – мирно и мерно, как колокольный звон над окрестными нивами, полями, лесами. А со временем – не ведомо как, никому незаметно – проступают вдруг среди цветных ядрышек размеренно-привычного жития-бытия тёмные пятнышки-червоточинки. То тут, то там сбираются кучкой пролетарии, что-то бубня невнятно угрозливое. И вот уже городская ведунья Тришачиха начинает то и дело не к месту вскрикивать: «Быти вскоре!» Никто ведь всерьёз не ждал смертельной грозы, хотя и находились любители потолковать «о конце времён». А вот поди ж ты настал – негаданно – последний пасхальный звон. И полезли на колокольню не умилённые в сердце своём сокровенные чудики, а хмурые большевики-пролетарии. Стащить колокола, «урезонить звон». Чтобы не мешали «пустословить на площадях», то бишь проводить митинги. Чтобы «голос прошлого» не заглушал голоса партработников – провозвестников грядущего всеобщего счастья.
И притих город, поникли горожане. Ибо довлеет дневи злоба его. А «прать против рожна не спасительно», – как молвил, ужасаясь бесчинствам, мудро оглядчивый соборный протоиерей.
Любопытно и показательно, как с переломом эпохи в романе меняется и речевой строй. Вместо напевного лада в завитушках пословиц и поговорок в духе «русского узорочья» являются вдруг надолбы «пролетарского» косноязычия. Словно меняется задник изображения – на место «фольклорного» Ремизова заступает Платонов с его взрывной неоархаикой. То-то будет любителям интертекстуальности упоительная работа – поколдовать над словом Дурылина в этих сопоставлениях.
Самые большие колокола новая власть, «организовав спуск», увозит из города на переплавку. Да не выдерживает деревянный мост через речку, и колокола уходят под воду. Как град Китеж, о котором Дурылин писал в самом начале своей литературной карьеры. Как град Китеж – чтобы в своё время воскреснуть. Как сама православная Россия, на семь долгих десятилетий ушедшая под воду – «чтобы сбылись пророки».
Недаром Дурылин зачинался как писатель в эпоху символизма. Припоминаются тут, кстати, и мистические рассуждения Вячеслава Иванова о «Большом Колоколе» и его Братстве, призванном склонить жизнь к преображению. Ещё один возможный пласт ассоциаций.
Не без намёка, видимо, русский автор воспользовался и названием одной из известных «Рождественских повестей» Диккенса. Там ведь тоже речь идёт о казнённых колоколах – в эпоху ровесника Ивана Грозного короля Генриха VIII, состязавшегося с русским царём в свирепости и многожёнстве. Тогда в Англии также были сотни закрытых монастырей, тысячи загубленных монахов и священников. Аналогия явная, неприкровенная.
Впоследствии, «при конце времён», добрые темьянцы будут долго ещё вспоминать «славные времена своих красных звонов, бархатного благовещенского благовеста и постного покаянного рыданья». Вспоминать как утраченный рай. Возрождаемый ли? Было и будет? Да, в подспудном идейном замысле и зароке романа есть что-то державинское – державное. Металла звон как глагол времён.
Да, в подспудном идейном замысле и зароке романа есть что-то державинское – державное. Металла звон как глагол времён.
Расслышать бы.
