, ПЯТИГОРСК–МОСКВА
27 июля – день памяти Лермонтова и 95-летия первого музея поэта
В нынешнем мае над Пятигорском и Машуком разразилась сильная гроза. Она громыхала над местом роковой дуэли Михаила Лермонтова, что состоялась в шесть часов вечера 27 июля (по новому стилю) 1841 года. Самая тяжёлая молния ударила в вершину ели возле правого грифона у памятника работы известного скульптора Б.М. Микешина, обвила и обожгла могучее дерево.
– Мы это воспринимаем как знак свыше, – сказала мне молодой директор Музея Лермонтова Ирина Сафарова, – хватит возни на пустом месте, требований уточнить место дуэли, перенести памятник. Ведь в час дуэли тоже разразилась гроза.
– Особый знак – молния ударила в мой день рождения – 10 мая, – добавила с улыбкой Светлана Гавриловна Сафарова – многолетний бывший директор музея. Она недавно уступила свой пост дочери, и такую семейственность можно только приветствовать.
Эта музейная династия считает, что с уходом самых уважаемых лермонтоведов – от Мануйлова до Андроникова – многие стремятся утвердиться в истории русской литературы с помощью сомнительных поисков и громких сенсаций. Если говорить о точном месте дуэли, то ещё Сергей Недумов уточнил, что дуэль была примерно в 200 метрах от обелиска, где-то в районе Перкальской скалы, никаких новых документов с тех пор не найдено. Разве это принципиально в то время, когда многие школьники вообще не знают, в каком городе и почему была сама дуэль? Правда, один приезжий профессор договорился до того, что дуэль вспыхнула на почве нетрадиционной ориентации поэта – куда сегодня без этого мотива?
Но не за сенсациями едут и идут сюда люди, а чтобы окунуться в мир прошлого, лермонтовского Пятигорска. Тенистая усадьба, дом под камышовой крышей, круглый столик, за которым были написаны последние стихи, водовозка у крыльца – последний отреставрированный экспонат музея, на который падают созревшие черешни, – всё дышит подлинностью и поэзией, вызывает раздумья. До 1912 года дом, в котором М.Ю. Лермонтов провёл последние месяцы жизни, находился в частных руках. Начиная с 1909 года велась продолжительная переписка между Императорской академией наук и Управлением КМВ. Суть её сводилась к тому, что члены Академии наук пытались убедить местные власти в необыкновенной ценности домика для литературной истории России, а местные власти, как водится, сообщали, что дом уже потерял ценность исторического памятника и денег в Управлении Вод нет. И всё же в 1912 году было принято поистине историческое решение: Пятигорская городская дума выкупила у очередного владельца небольшой домик, которому впоследствии суждено было стать одним из самых популярных и посещаемых мест на юге России. Домик был передан в ведение членов Кавказского горного общества, в нём были организованы библиотека и музей.
Бесспорно, за 95 лет существования музей переживал разные времена. Особенно тяжёлыми были первые годы, когда не выделялось никаких средств на содержание, и единственным источником дохода была медная кружка, в которую бросали свои скромные пожертвования одиночные посетители. Были и годы необыкновенного успеха, своеобразный «золотой век» в истории музея. Это семидесятые – начало восьмидесятых годов двадцатого века, время, когда по всей нашей стране прокатилась волна так называемого музейного бума. В эти годы посещаемость музея составляла более 200 тысяч человек в год. Тогда было трудно попасть в музей, люди писали жалобы в горком партии о том, что не все желающие имеют возможность посетить последний приют поэта. На заседаниях учёного совета ставились вопросы об ограничении количества посетителей для обеспечения сохранности музея. Предлагалось даже закрыть домик и осматривать его снаружи, были даже идеи поместить его под стеклянный колпак. На многолюдных праздниках выступали лучшие поэты и филологи страны.
В 2006 году число посетителей музея составило 158 тысяч человек, но трудностей не убавляется. Музей входит в перечень особых памятных мест федерального значения, но финансирование идёт краевое и местное. Оно настолько скудное, что известнейший музей, куда приезжают знаменитые посетители, исследователи и почётные гости в возрасте, не имеет абсолютно никакого транспорта. Федеральное агентство по культуре ни в чём самому посещаемому музею Северного Кавказа не помогает. В книге посетителей недавно появилась запись актёра Стаса Садальского: «Прекрасный музей. Браво его работницам! Позор Михаилу Швыдкому!» Конечно, актёр, принявший с помпой грузинское гражданство, не является самым авторитетным патриотом России, но в этом вскрике он, наверное, прав.
Ещё в феврале 1916 года было принято решение о создании особого лермонтовского комитета, состоявшего из членов Кавказского горного общества, сочувствующих граждан и представителей Управления КМВ. Возглавил работу комитета, а значит, и стал первым попечителем лермонтовского музея Дмитрий Павлов. Известный учёный, краевед, общественный деятель. В декабре 2006 года в Государственном музее-заповеднике М.Ю. Лермонтова снова состоялось первое заседание членов попечительского совета. Членами воссозданного совета стали известные и уважаемые люди, радеющие за нашу отечественную культуру.
Почётным председателем единогласно был избран М.Ю. Лермонтов – потомок поэта, советник министра культуры РФ, генеральный директор национального подмосковного лермонтовского центра «Середниково». А председателем попечительского совета стал человек, который много сделал на ниве меценатства и благотворительности, – И.Х. Илиади, чьё имя хорошо известно любителям истории и культуры. Он участвовал в возрождении православных храмов, создавал и устанавливал за собственные средства памятники деятелям российской истории и культуры. За вклад в строительство Второ-Афонского монастыря был награждён Святейшим Патриархом орденом Святого Даниила Московского.
Первым обращением попечительского совета стала настоятельная просьба к митрополиту Ставропольскому и Владикавказскому епископу Феофану о церковной реабилитации Михаила Лермонтова, если выражаться политологическими штампами. Как известно, император, борясь с дуэлями в армии, повелел Синоду приравнять убитых на дуэли к самоубийцам и соответственно хоронить их без отпевания и панихиды. Потому и записал современник: «Погребения пето не было в пятигорской Скорбященской церкви». Вроде бы Церковь у нас давно отделена от государства, но имперские установления по отношению к поэтам действуют, и не всякий настоятель храма решается отслужить панихиду по убиенному Михаилу.
...Снова вечер июльский видится
Столь же горестно, как вчерашний.
Был уравнен с самоубийцами
Он, в Мартынова не стрелявший.
Может, что-то у нас получится,
Если сызнова в горнем свете
Помянёт Россия поручика,
Поскорбит о сыне-поэте!
Хочется пожелать вновь созданному попечительскому совету успехов в поиске средств и достойных людей, желающих сегодня помочь одному из старейших литературных музеев России. Например, я стал чуть ли не последним из московских поэтов, которого несколько лет назад мог пригласить музей на выделенные средства для участия в осеннем Лермонтовском празднике. Традицию приглашения поэтов-земляков Лермонтова из Москвы, Петербурга, Пензы надо тоже возродить. Когда-то первый попечитель лермонтовского домика Д.М. Павлов произнёс слова, не утратившие своей актуальности и сегодня: «Такие дела – гордость нации, поэтому достойное осуществление их может быть результатом только дружных усилий достойнейших сынов родины, понимающих всю необходимость работать для поддержания престижа своего отечества, пока пасующего перед внешним блеском западной культуры…»
Дальше пасовать не годится. А то испепеляющая молния ударит не в ель, а в самое сердце отечественной культуры.

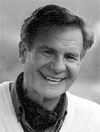 Александр БОБРОВ
Александр БОБРОВ