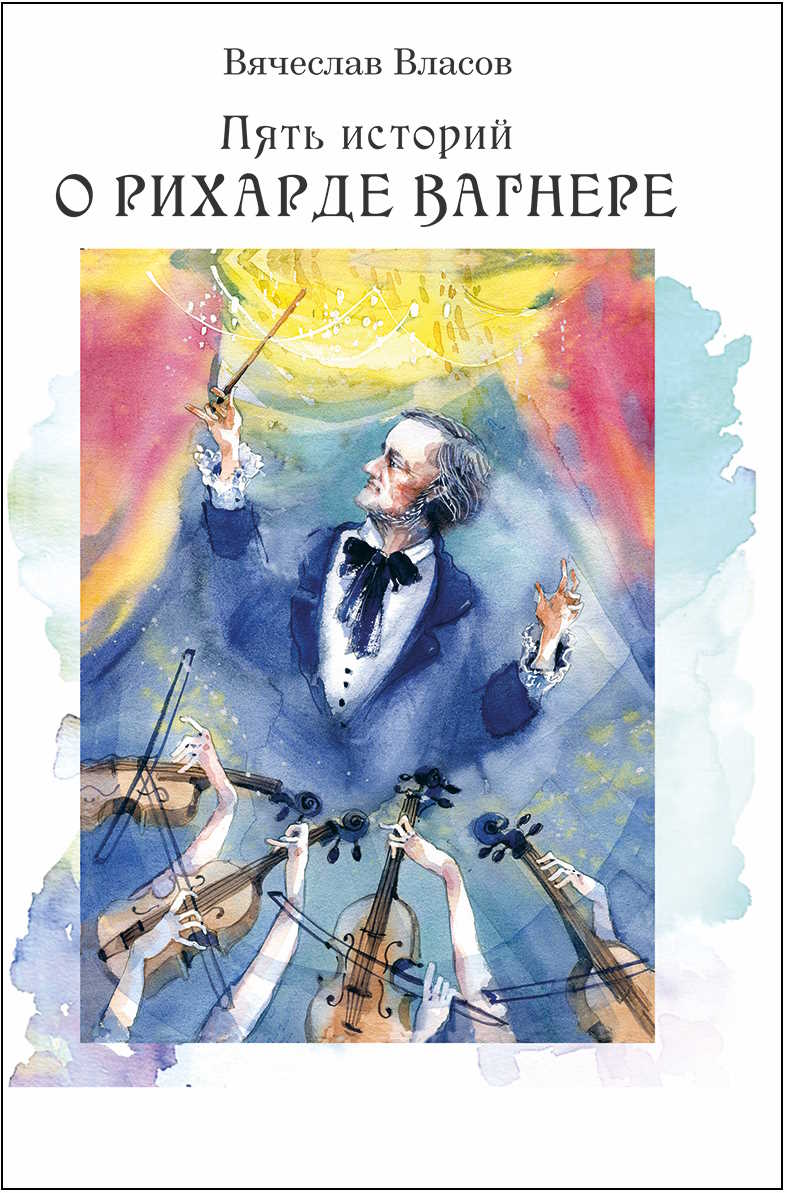
Анастасия Ермакова
Вячеслав Власов. Пять историй о Рихарде Вагнере: повесть. – М.: У Никитских ворот, 2025. – 144 с.
Имя Вячеслава Власова известно не только поклонникам Рихарда Вагнера, но и тем, кто интересуется современной литературой: его рассказы и документальные очерки о жизни и творчестве великого композитора публиковались в журналах «Аврора», «Невский альманах», а в «ЛГ» неоднократно выходили рецензии на его книги.
И вот теперь большая часть «вагнерианы» собрана под одной обложкой. В книгу «Пять историй о Рихарде Вагнере» вошли рассказы «Воссоединение на берегах Даугавы», «Рихард Вагнер и великая княгиня Елена Павловна», «Закат в Венеции», а также два документальных очерка («впрочем, тоже написанных весьма художественно», как подметила в предисловии главный редактор «Авроры» Кира Грозная) – «Закулисье первого «Кольца Нибелунга» в Российской империи в 1889 году» и «Сколько времени занимает отмена «культуры отмены»?».
Благодаря тому что произведения расположены в хронологическом порядке, мы можем проследить судьбу Рихарда Вагнера от юности и первых композиторских опытов до последних дней в Венеции, где он умер признанным гением и легендой. В некотором роде эти три рассказа можно считать костяком беллетризованной биографии композитора, которую, хочется верить, Вячеслав Власов однажды напишет.
Впрочем, как обычно и бывает с великими творцами, их биография не заканчивается физической смертью: произведения продолжают жить, и судьба их подчас не менее сложна и увлекательна. Поэтому читать о том, как ставились его оперы в России и как творчество Вагнера пережило «отмену» во время Первой мировой войны, очень интересно.
Вячеслав Власов занимается исследованием жизни и творчества Рихарда Вагнера уже четверть века. Это скорее не профессиональный интерес музыковеда, а искренняя страсть: Власов преклоняется перед гением композитора и не скрывает этого. Иногда подобная увлечённость может сыграть против биографа: велик соблазн возвести кумира на пьедестал и покрыть позолотой, создать образ непогрешимого гения, живущего в башне из слоновой кости и взирающего оттуда на мелочный и несовершенный мир. Но Вячеславу Власову удалось этого избежать. Созданный им образ Вагнера – образ живого, несовершенного человека, слабости и недостатки которого автор не игнорирует и не пытается оправдывать. Да, композитор вывел музыку на новый уровень и наполнил театральные постановки глубоким духовным содержанием. А ещё – мечтал о постройке собственного дома, проматывал деньги, не гнушался разного рода коммерческих трюков, чтобы заманить публику на свои представления. И мастерски льстил сильным мира сего. «Вагнер талантлив, но он, конечно же, льстец. Не проходит и дня, чтобы он не написал ей письма «с величайшим почтением» и с просьбой к «высокочтимой», «всемилостивейшей» и «дражайшей» фрейлейн похлопотать за него перед княгиней, на описание существующих и воображаемых достоинств которой он не жалел пера» – так через несобственно-прямую речь автор характеризует своего героя, показывая его глазами баронессы Раден («Рихард Вагнер и великая княгиня Елена Павловна»).
Однако когда человек достигает такого уровня величия, подобные изъяны становятся даже немного трогательными: надо же, гений, а льстит ради выгоды, как простой смертный… Мы склонны прощать подлинно талантливым людям их слабости.
Но дело, конечно, не только в этом. Вагнер, воссозданный Власовым, в целом не похож на памятник самому себе. Он мечется, переживает, мечтает, разочаровывается, видит свою цель и идёт к ней вопреки всему. В нём много жизненной энергии, воли, веры в себя и свой дар. Он влюбляется, дружит и наслаждается простыми житейскими радостями. Словом – живёт.

Сам Вячеслав Власов в предисловии к рассказу «Закат в Венеции» пишет о работе над текстом так: «Я не стремился к созданию биографического очерка, к изложению точной последовательности происходивших… событий, хотя придерживался воспоминаний их участников. Мне захотелось приоткрыть художественными средствами «личное пространство» великого композитора и человека с непростой судьбой: его мысли и устремления, характер, отношения с близкими ему людьми». Это можно отнести и к другим рассказам. Действительно, благодаря художественности текста мы можем проникнуть в святая святых, при этом не испытывая неловкости за вторжение, которую чувствуешь иногда, читая дневники и письма великих. Автор служит для читателя проводником, рассказывая о жизни Вагнера так, будто был её незримым свидетелем. При этом важно отметить, что, несмотря на все художественные допущения и некоторый полёт фантазии, в основе текста всё-таки лежат документы.
Отвечая на вопрос о соотношении документального и художественного, в интервью «ЛГ» Власов подчеркнул: «Я сам считаю свои повести художественными. Но, поскольку они тесно связаны с конкретными историческими событиями, поддержание «здорового баланса» между фактами и их переосмыслением становится первостепенной задачей. Процесс её выполнения непрост, но меня он увлекает».
Документальные очерки, посвящённые дальнейшей судьбе произведений Вагнера, отличаются от художественных текстов и стилистикой, и тональностью, но ничуть не уступают в увлекательности. В этих текстах больше фактов, быстрее темп повествования; здесь автор иначе расставляет акценты. А ещё – даёт волю иронии. Приведу пару цитат из текста «Закулисье первого «Кольца Нибелунга» в Российской империи в 1889 году»: «За два месяца гастролей Анджело Нойман и его труппа смогли сполна насладиться русской бюрократической машиной»; «Таможенники дольше всех в Российской империи помнили о гастролях «Кольца»: в течение двух лет после их окончания они сверяли количество ввезённого и вывезенного в надежде пополнить казну штрафами. Но щепетильный Нойман вывез из России всё… не оставив даже экземпляра нот». «Досталось» в очерке и нерадивым хористам, и капризным музыкантам, и ушлым чиновникам, и невежественной публике – словом, всем тем, кто мешал продвижению великого искусства. Увы! Путь любого произведения к читателю, зрителю или слушателю никогда не бывает прямым. Но в случае Вагнера всё закончилось счастливо: «Кольцо Нибелунга» снискало в России не меньший успех, чем в Европе.
Особняком стоит в книге очерк «Сколько времени занимает отмена «культуры отмены»? Опыт Санкт-Петербурга начала ХХ века», посвящённый бойкотированию музыки Вагнера во время Первой мировой войны. Для его написания Вячеслав Власов проанализировал более тысячи номеров ежедневной петербургской (петроградской) газеты «Обозрения театров». Огромная работа! К тому же для большей наглядности статистические данные в очерке сопровождаются диаграммами. Но основная ценность его не в этом, а в острой актуальности. Совсем недавно все мы с болью и недоумением наблюдали, как Запад «отменяет» наших великих композиторов, писателей и других деятелей культуры. В начале прошлого века зеркальная ситуация происходила в нашей стране: на фоне антигерманских настроений «отменялось» всё немецкое. Власов рассказывает об этом явлении и его механике без оценки, на языке фактов. И мы понимаем: в основе «культуры отмены» нет никакой логики и здравого смысла, только эмоции, вызванные общим ощущением нестабильности, неуверенности, страха. Но эмоции изменчивы и непостоянны, а потому Великое Искусство возвращается, как только умолкают орудия. Так, Вагнер вернулся на российские театральные подмостки всего через несколько дней после выхода нашей страны из войны…
Лейтмотив всепобеждающего искусства проходит через всю книгу Вячеслава Власова. И эта идея о победе чего-то прекрасного, чистого, дарованного свыше – над проблемами, над суетой несовершенной человеческой жизни и даже над войной, ненавистью и смертью, – внушает оптимизм. Думаю, нам всем очень важно верить в это, чтобы не только удержаться на плаву, но и наполнить жизнь высшим духовным смыслом.

