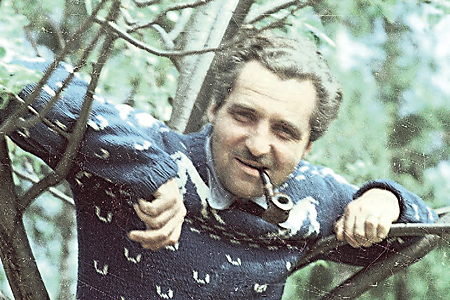Жизнь К. Симонова – ярчайший пример успешности, причём скорее «вопреки», а не «согласно»… В неполные тридцать он уже сверхпопулярный поэт и драматург, а к тридцати пяти – лауреат шести Сталинских премий по литературе, один из руководителей Союза писателей СССР. И это несмотря на происхождение (отец – царский генерал, мать – из рода Оболенских), на арестованных и сосланных родственников.
Обласканность властью, по крайней мере внешне это выглядело именно так, и одновременно искренняя любовь читателей – явление редкое для всей русской словесности. Несмотря на множество испытаний, Кирилл Михайлович Симонов (Константин Симонов – под этим именем он живёт в памяти поколений) остался на редкость цельным человеком, с чётким пониманием чести и бесчестья, с удивительным, особенно для своего времени, ощущением личной ответственности перед историей и смелостью как в поступках, так и в самооценке.
Главным событием для Симонова стала Великая Отечественная война. С первых и до последних её дней Константин Симонов – фронтовой корреспондент; герои его очерков, рассказов, пьес и стихотворений – солдаты и офицеры, объединённые категорическим неприятием трусости и устремлённые к победе. Таким Симонов увидел «истребителя» Николая Терёхина («Секрет победы»):
Был Николай Терёхин
Одним из таких ребят,
Которым легче погибнуть,
Чем отступить назад.
В рассказе «Сын Аксиньи Ивановны» (после войны он практически не переиздавался) о казаке Вершкове, вне всякого сомнения навеянном шолоховским «Тихим Доном», Симонов сделал храбрость константой, объединяющей казаков с георгиевскими крестами и красного командира, в годы войны возглавившего добровольческую казачью дивизию. В этом произведении, наверное, впервые прозвучала столь значимая для Симонова идея единства мёртвых и живых защитников. Над могилой недавно погибшего молодого казака Сергей Вершков задумался. «И показалось мне в эту минуту, что и вправду я словно отец им всем, живым и мёртвым».
В сборнике статей «На Запад», изданном в самый разгар тяжелейших боёв на юге (подписан к печати 26.04.1942 г.), Симонов стремился показать, что война – удел спокойных, мужественных людей, не боящихся взглянуть смерти в глаза. Таков главный герой рассказа «Истребитель истребителей», лётчик, «спокойный человек» Коваленко, более всего любящий, как витязи киевской поры, единоборство с мессершмиттами («хорошая машина, у неё огонь сильный»).
Программной и для сборника, и для всего творчества К. Симонова станет «теория» комиссара Корнева из рассказа «Третий адъютант», главный герой которого «одинаково мерил опасность и для себя, и для других», но всегда полагал, что «храбрые умирают реже».
Это и позиция самого Симонова: «Я <комиссар> просто знаю, что в одинаковых обстоятельствах храбрые реже гибнут, чем трусы. А если у Вас не сходят с языка имена тех, кто был храбр и всё-таки умер, то это потому, что, когда умирает трус, о нём забывают прежде, чем его зароют, а когда умирает храбрый, то о нём помнят, говорят и пишут. Мы помним только имена храбрых».
Искренне веря в политику советского правительства, Симонов во второй половине 1940-х – начале 1950-х гг. активно участвовал во всех официальных мероприятиях, «боролся за мир», создавал произведения «на злобу дня». И тем не менее во многих случаях, руководствуясь исключительно собственным пониманием чести и бесчестья, прекрасного и безобразного, он, чиновник и главный редактор «Нового мира», шёл на столкновение со всесильной бюрократией. Благодаря Симонову рассказ «Возвращение» («Семья Иванова»), шедевр позднего А.П. Платонова, был опубликован в предпоследнем (№ 10/11) номере «Нового мира» за 1946 год. Спустя всего лишь несколько недель, 4 января 1947 года, рассказ был подвергнут разгромной критике В.В. Ермилова («Клеветнический рассказ А. Платонова»). Мог ли Симонов, публикуя платоновский рассказ, предполагать столь жёсткую реакцию со стороны критики? Скорее всего, да. И тем не менее он пошёл на это. Точно так же спустя десять с лишним лет Симонов способствовал публикации булгаковских произведений.
Нельзя не отметить и то, что Симонов, «прорабатывая» «идейно чуждых писателей», обличая «космополитов», в то же время смягчал эту партийную линию, привнося в неё идею милосердия. Так, одна из самых неоднозначных пьес Симонова «Чужая тень» (1949 г.) заканчивалась возвращением «провинившегося» учёного Трубникова к работе. В симоновской трактовке это решение правительства, которое верит человеку и «не сомневается в его способности искупить свою вину и довести до конца начатое им дело». И, судя по контексту, решение принято на высочайшем уровне – Сталиным.
В разгар сразу нескольких кампаний по борьбе с потенциально инакомыслящими рискнуть вложить в уста персонажа на первый взгляд агитационной пьесы слова о необходимости милости к провинившимся и «освятить» это авторитетом Сталина, было не просто смелым поступком, а актом гражданского мужества. Выполняя заказ, делая то, что ему предписывали инструкции и указания партии, Симонов в 1940–1950-е годы смягчал наказание для «провинившихся» перед властью, превращая свои обличительные речи и отдельные произведения в способ проявить милость к поверженным врагам.
Настоящим потрясением для Симонова стало развенчание культа личности. Фактически отстранившись на несколько лет от сколько-нибудь официальной деятельности, уехав из столицы во второй половине 1950-х гг., К.М. Симонов вернулся в московскую литературную жизнь как автор трилогии «Живые и мёртвые» (1959–1971 гг.) – одного из лучших произведений о Великой Отечественной войне. Вопреки мнениям скептиков о творческой исчерпанности Симонов не просто остался в числе лучших писателей 1960–1970 гг., но и в ряде случаев выступил в качестве «законодателя моды», определяя основные направления развития не только литературной, но и культурной жизни того времени. Кто знает: состоялась бы кинематографическая карьера А.Ю. Германа без симоновского сценария к фильму «Двадцать дней без войны» по его же повести «Из записок Лопатина»?! И уж во всяком случае не было бы лавины воспоминаний и размышлений фронтовиков в печати 1960–1970-х гг. без симоновской поддержки этому движению как в виде каких-то организационно-бюрократических действий, так и обычным человеческим напутствием.
Всю жизнь Симонов сожалел о том, что не остался на Буйничском поле под Могилёвом, где летом 1941 г. был остановлен фашистский натиск. Здесь К. Симонов впервые увидел 39 действительно подбитых немецких танков. Здесь, по его же словам, нашёл ключ к пониманию войны, а недолгая встреча с командиром 388-го стрелкового полка 172-й стрелковой дивизии полковником Кутеповым, ставшим одним из прототипов генерала Серпилина, героя романа «Живые и мёртвые», оказалась для него одной из самых значительных в жизни.
Память о войне у Симонова – это не только боль, как и у миллионов людей, но и определённое сожаление о дороге, от которой он отказался: не поддался порыву души, не внял «зову предков» и не выбрал удел простого солдата – не остался на Буйничском поле. За него это сделает в 1959 году в романе «Живые и мёртвые» военный журналист Синцов, одним из прототипов которого был сам автор.
Согласно завещанию писателя его прах был развеян на Буйничском поле, недалеко от Могилёва. Там же близкими поэта был установлен огромный камень с факсимиле «Константин Симонов» и табличкой с надписью: «К.М. Симонов. 1915–1979. Всю жизнь он помнил это поле боя 1941 года и завещал развеять здесь свой прах».
В 1978 году, всего лишь за год до своей смерти, К.М. Симонов, словно предвидя грядущие «суды и пересуды» потомков, написал: «Если о времени, когда ты не печатался или только начинал печататься, можешь рассказать только ты сам, то обо всём последующем в жизни писателя говорят главным образом его книги». К текстам писателя, а не к комментариям, как правило сиюминутно пристрастным, и надлежит нам обратиться.
Стопятилетие Константина Симонова – весомый повод к новому прочтению произведений писателя и гражданина, к раздумьям о человеке и его месте в этом мире. Трагический опыт К. Симонова по сей день ждёт своего осмысления и оценки, как и личность самого поэта, который стал наглядным подтверждением «теории» комиссара Корнева: гибель или смерть храброго люди замечают, а о трусе не вспоминают.