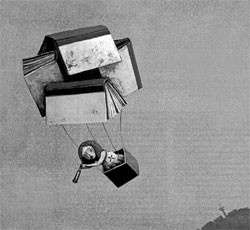 Иногда так устаёшь от путаницы и неясности наших литературных произведений, что невольно хочется воззвать к некой обобщающей идее. Должно же в конце концов существовать то, что придало бы смысл роману, повести, рассказу, стихотворению. Дало бы форму бесформенному, вывело бы из тупика заблудившийся сюжет и его героя.
Иногда так устаёшь от путаницы и неясности наших литературных произведений, что невольно хочется воззвать к некой обобщающей идее. Должно же в конце концов существовать то, что придало бы смысл роману, повести, рассказу, стихотворению. Дало бы форму бесформенному, вывело бы из тупика заблудившийся сюжет и его героя.
«ВРЕМЯ-ПЕРЕКИДЧИК»
Но легко ли поверить ныне в Бога, в царя или в Россию как некую спасительную святыню? Олег Павлов в своём эссе «Гефсиманское время» («Октябрь», № 1) показывает, что русскому человеку это всегда было крайне нелегко. Слишком уж часто на Руси менялись святыни, чтобы оставаться единовером. Да и у О. Павлова что ни абзац, то новая точка отсчёта. «Временем в России управляет её пространство», но пребывает она в «в небесных пределах». Богородица-защитница одна, а святых ликов много: «Казанская, Тихвинская, Абалакская, Федоровская…». «Гефсиманское время» – время страданий, но и приготовлений к «таинству обретения новой жизни». Оно и революция, и «национальный порыв к святости», а все попытки созидания «очередного светлого будущего» обречены на «обратный путь». Мы вечно, говорит писатель, «пятимся – очень русское словцо». То есть вечно аннулируем свою историю и себя, как «пятит» свой текст О. Павлов чуть ли не пофразно.
Такое же попятное движение от единицы к нулю, от формы и содержания к тому, что их развеивает в прах, можно наблюдать в большинстве произведений журнальной прозы января-февраля. Наиболее очевидно это там, где формосодержательное единство жизненно важно для жанра, – в романе. В «Башне из лобной кости» («Дружба народов», № 1), романе Ольги Кучкиной, журналистка и «фантазийная девочка» в восторге от «известного всем» художника Окоёмова – его искусства «сдвинутой реальности», его внешности «постаревшего ангела», его устных рассказов, в том числе фронтовых. Но на самом пике восторга автор и его героиня поворачивают вспять: художник оказывается человеком-оксюмороном, с другим прошлым и другой фамилией. Героиня-«солипсистка», однако, не спешит с ярлыками, подбирая для афериста слово «перекидчик». С виду обидное, а как будто и оправдывающее: это тот, кто умеет соединять реальное и выдуманное в некое «третье» состояние. Лишь к концу автор спохватывается, что явление это может быть заразным, причём глобально, вырастая во «время-перекидчик».
Или время нулевое. Именно так, «Время ноль» («Москва», № 1), назвал свой роман Василий И. Аксёнов. Истомин, его герой, едет на свою сибирскую родину, тратя время на препирательства с местными «новыми русскими», распродающими природные ресурсы. Но главное время съедает алкоголь, который Истомин употребляет как раз для этих целей. И финал, где он узнаёт, что, едва вернувшись, надо ехать обратно («У матери остановилось сердце»), возвращает к уже пройденному пути. Всё равно что повторить вязь из сложно-, очень сложносочинённых и подчинённых предложений и слов-курсивов, фиксирующих эмоциональные пики героя. Трезвому путнику всё это словесное пьянство уж точно не повторить. В том же, нетрезвом, контексте воспринимаются и диалоги-споры героя с «новыми русскими», ласково презирающими Истомина: «как хиппи», «зачем дураку деньги», рюкзак «воняет черемшой», «привык жить, как в хлеву» – и это всё о нём. Вот и читатель вынужден балансировать между презрением, жалостью и сочувствием к горемычному герою романа.
Для одних «нулевое» существование – болезнь общероссийского масштаба, а для других – повод поиграть в иррациональность, как в романе Алексея Евдокимова «Ноль-ноль» («Октябрь», № 2). Его главный герой Фил выводит нас на первопричину всех здешних погонь и исчезновений. Объясняется всё психологическим казусом – отсутствием «взаимосвязи человеческих позывов и поступков». Прохиндей по кличке Мас играет на этом в буквальном смысле слова, внушая доктору-наркологу Филу, что общаться со своими пациентами – «это твой способ долбиться без дури». Но он рад «долбиться» уже настоящей «дурью», до состояния полного «обнуления». Так что никакого просвета писатель своим героям не оставляет.
«Я ЗДЕСЬ НЕ ПОМЕЩАЮСЬ»
Пути преодоления нулеобразования в литературе и человеке разнообразны. В борьбе с ним писатель может выстраивать целые уравнения. Денису Гуцко хватило рассказа «Молчаливый Афанасий» («Дружба народов», № 1), чтобы построить сложную конструкцию с участием физиков-ядерщиков, их детей с аномальными способностями и полтергейстом-князем Ордынцевым, влюблённым в замужнюю Эсфирь. В новом послеапокалиптическом мире (неудача эксперимента Алданова) прирождённый пофигист Афоня возведён в сан «Молчаливого Будды»-«наблюдателя». Его философия балансирует между Богом и чудом: «Чудо – это… бунт против Него. Мир нуждается в постоянном вмешательстве… чуда. А значит, Бог способен ошибаться». Отождествление себя и чуда означает «невменяемость Бога», но и «чуду нет места в нашем мире». Такова арифметика нулевого существования Афони. Таков и итог рассказа.
Столь же иррационально бытие героя повести Алексея К. Смирнова «Мор» («Новый мир», № 1), хотя ему поначалу грозит всего лишь раздвоение. Приняв образ буквы «У», оно указывает Свириду на возможность компромисса не только с наличным пространством-временем, но и с совестью. И вот сотрудник сталинского КГБ становится писателем-лакеем по кличке Шунт у «новых русских», пробует даже поманьячить. Позор его положения усугубляется в финале публичной женитьбой на собаке. Куда уж больше, кажется. Но не сгоревший со стыда и унижения Свирид-Шунт «с умным и грустным лицом» самовнушает: «Надо писать, петь среди чумного мора». А надо ли, если и герой несимпатичен, и атмосфера, сотканная из господ Головлёвых и прочих Парфюмеров, смердит?..
Этой «иудушкиной» выморочности удалось избежать Алексею Макушинскому в его блестящем стихотворении «Шагающий египтянин (5-я династия)» («Звезда», № 1). «Его присутствие ужасно», но необходимо, поскольку даёт перспективу и смысл жизни. Без этого профетического «шагания» созерцающие его люди остаются просто посетителями музея, где он «был выставлен». Но и без них, живых людей, египтянину не быть шагающим, всевидящим, всезнающим: «А пустота в его глазницах / нас видит и его рука / легко летит и в даль стремится / в даль, что и вправду далека».
«Бог–человек–мир» – решение этого уравнения зависит от условий постановки задачи, в том числе и творческой. Владимир Шаров в объёмном романе «Будьте как дети» («Знамя», № 1–2) главный путь решения вроде бы обозначил в заголовке. Не обозначил только количество «детей», героев своего произведения, которое как бы лепится из пчелиных сотов микроновелл: история московской юродивой Дуси, житие «энцского апостола» Перегудова, апокриф об инсультном Ленине, завещавшем не взрослеть, чтобы вернуться к Богу, жизненный путь отца Никодима, зеркала русской революции, и Ноана Ефимова, шамана, зэка, диссидента. И весь этот чудно написанный бред заклинает: только дети укажут путь в Иерусалим, и Бог всех отмолит, всех спасёт. Тотально юродивый, этот роман не щадит и автора, который не исторического обитателя Горок описывает, а самого себя. Впавшего в детство постмодернизма времён «Нормы», «Омон Ра», «Головы Гоголя» и проч. Наверное, роман серьёзнее, чем кажется, говоря о детскости как о защитной реакции на репрессивные советские годы и уровне менталитета той же власти. Но можно и вспомнить пресловутого «Гарри Поттера» с его агрессивной, всеподавляющей апологией детства. Особенно в эпизоде с расшифровкой отцом Никодимом детских считалок («Эне бэнэ рэс, / квинтер мэнтэр жэс…») как сакрального текста.
Именно «тот самый Гарри» встал во главе двоякодышащего процесса оребячивания «взрослой» литературы и овзросления детской. Этому, по сути, посвящена статья Ольги Лебёдушкиной «Бегство от «нельзя». Детские книжки как взрослое чтение» («Дружба народов», № 2). У нас это «бегство» было оправдано зверствами цензуры, а у них, пишет автор, общечеловеческими целями: Роулинг, оказывается, вернула литературе не просто «диккенсовского мальчика с золотым сердцем», но и «рефлексирующего интеллигента». «Поттериана», где нет Бога и Христа, кроме добряка Дамблдора, оказывается воплощением этакого детского шовинизма. Пусть уж всё-таки детская литература остаётся на своей полке.
Но есть у детства и свой порок – инфантилизм. И чтобы не оставаться вечно на «нуле», надо расти и созревать. Именно эта бушующая зрелость жизни, стиха и чувства подкупает и обезоруживает в стихах Геннадия Русакова в его подборке «Проверенные люди» («Дружба народов», № 1). Всё значимо только на пределе: «Большое сердце нужно для стихов. / К нему вприклад – хорошая дыхалка. / И нрав, как у бойцовых петухов». А «когда меня Господь поставит на весы», тут, в садах Господних, он увидит нечто запредельное: «Хохочет на бегу задастый херувим / и ангелы летят с немыслимым наклоном». И если даже ему, выкладывающемуся на все сто, «ничего в бытии не понять», то не понять и Ему. «Этот странно устроенный мир» можно только любить.
У лирической героини Анны Русс и подборке стихов «Всё, что случилось в книжках, случится с нами» («Октябрь», № 2) ситуация обратная. Если герой Г. Русакова везде ко двору, потому что всегда поверх барьеров, то её томит дискомфорт. «Внезапно ты понимаешь – всё, чем когда-то жил… / стало пустою формой». Даже любить по-настоящему можно только мужчину «на Роли Второго Плана». И так везде, например, в «вагоне», где «ни у кого нет сердца». И если бы героиня стихов поэтессы «так часто» не обращалась к Господу, то можно было бы подумать, что проблема «я здесь (в вагоне, в жизни, в мире) не помещаюсь» – не метафизическая, а географическая. Впрочем, такое сомнение остаётся до последней строки: кажется, что и отдельное стихотворение не дописано до конца, и вся подборка не «доподобрана».
ЦЕЛЫЙ ЗООПАРК
Но вернёмся к прозе. Есть в ней и другая ересь – излишней простоты. Такова, например, повесть Валерия Хайрюзова «Иркут» («Наш современник», № 2). Её язык и сюжет настолько бесхитростны, что финал угадывается чуть ли не с момента знакомства героя с Саяной Селезнёвой. Русский «мимино», обслуживающий на Ан-2 бурятскую глубинку, – герой будней, и за это любим немолодой восточной красавицей. Лагерь тёмных сил традиционно представлен золотолюбивыми толстосумами, использующими доверчивого Григория Петровича. Но он уже нашёл свое «золото» – Саяну, которую по законам жанра и спасает из «тёмного, пенного» Иркута, можно сказать, на «голубом вертолёте» приключенческого романтизма. И вроде бы от реализма автор не отступил, а от ощущения схемы не отделаться.
Но даже в этой простой истории есть тень спасителя подлинного – духа тех мест, где родилась мать «Потрясателя Вселенной» Чингисхана и где посчастливилось родиться лётчику. А вот в рассказе Романа Сенчина «Тоже история» («Дружба народов», № 2) Николая Дмитриевича неизвестно что и кто спасёт. Современная политика, которой он уже перестал интересоваться, вдруг сама начинает им «интересоваться». Случайно попавший на митинг специалист по истории «периода между Первой и Второй мировыми войнами» оказывается вовлечённым в митинговую войну между политическими движениями и ОМОНом. Она-то и стирает все различия между митингующими, в том числе и биологические: почтенный герой «превращается в одно из животных, которых куда-то гнали». Дальнейшее превращение может усугубить как нарочно оказавшаяся в его портфеле книга о Гитлере. Так что жить и писать просто сейчас невозможно: переусложнённый предыдущими эпохами мир всё равно влезет в произведение – если не в «дверь» сюжета, так в «окно» образа или метафоры.
Но если радикально укорачивать свои рассказы и своих героев, то можно. Как это делает писатель по имени Тарасик Петриченка в своих «зарисовках» «Кошка» («Нева», № 1). Таких «кошек», то есть скоротечных героев, у него целый зоопарк. Достаточно срифмовать нелепую фамилию с несуразным происшествием, и такая, например, «зарисовка» готова: Востриков, решивший, что он «Робокоп», превращается в «Рыбакова», за что и был побит. Свою краткость, обусловленную алфавитным порядком миниатюр, автор объясняет свойством компьютера «располагать файлы в алфавитном порядке». Налицо привычка к заданным параметрам и отвычка от бумаги, пера, черновика и специфическая лень доделывать «зарисовки» в рассказы.
Владимир Новиков, назвавший свой литературоведческий материал «Блок» («Новый мир», № 2), тоже оговаривается, что представил лишь «этюды к будущей книге». Получились же, скорее, акценты. То есть когда общеизвестное хоть и пересказывается, но с «задней мыслью». Точнее, с «передней». Ибо автора «Романа с языком» больше интересует «любовная сторона жизни Блока», с рождения оказавшегося в «женском мире». Сначала мать, затем проститутки, которых он по-бодлеровски «романтизировал», и, наконец, К. Садовская – главный «опыт страсти» начинающего поэта. Что ждёт читателя в «будущей книге», где не миновать Менделееву, Волохову, Дельмас и др., можно догадаться. Дровишек в костёр интереса к «Блоку», несомненно, добавит и сожаление автора, что в русской литературе «до сих не разработана «подсистема»… описания интимной жизни больших художников слова». Можно не сомневаться, что писатель попытается «разработать» её в новой книге.
СЫВОРОТКА ИЛИ КРОВЬ?
Другая «подсистема» – вольных размышлений пожилого писателя на разные темы – разработана вполне. Благодаря В. Розанову прежде всего. Вот и Даниил Гранин представил свои «опавшие листья» под схожим названием «Листопад» («Звезда», № 1–2). А попросту карт-бланш на всё то, что некогда подумалось, озарилось, записалось. Удобная, надо сказать, бесформенность для тех, кому нет досуга или охоты писать сюжетно: селекция здесь молчит. Известный как ярко выраженный демократ, автор «Зубра» и здесь отдаёт щедрую дань антисталинизму, теме войны и блокады с точки зрения всё той же «усатой» власти. Современности автору касаться как-то не с руки: он спешит окунуться в прошлое, вспомнить о Д. Лихачёве, Д. Шостаковиче, Г. Горе, физиках и лириках – всё, о чём можно судить безошибочно. Наукопоклонник, Д. Гранин лучше будет говорить о прогрессе и совести, чем о последствиях этого прогресса и о Боге, «отодвинутом на самый край жизни». Но подобно «кумиру» шестидесятников Хрущёву сам автор подчас его напоминает своей «листопадной» «смесью… заносчивых оправданий, порой исповедальных», плюс поправки, сентенции, «вставки, превращающиеся в целое выступление». И при всём этом «слушать» (т.е. читать) его интересно. Как интересно иногда прочитать нечто в жанре Senilia.
Другой случай противоречивого личностного текста – раритетный. Это поэма позднего Николая Клюева «Кремль» («Наш современник», № 1). Солнечный, яркоцветный стих «солнценосца» и «песнопевца» не похож на старческие «листья». Хотя пятидесятилетний поэт, попавший в сибирскую ссылку, и пытается пересмотреть своё мировоззрение. Но похож он при этом на былинного богатыря: «Я предстаю снегам нагорным – / Вершинам ясного Кремля, / Как солнцу парус корабля, / Что к счастья острову стремится / Ширококрылой гордой птицей». Можно ли после таких строк воспринимать похвалы власти и «кормчему Сталину» лестью, стремлением любой ценой вернуться в Москву? Нет, таким языком говорит только равный с равными. И нет здесь «замены прежних ценностных знаков» на новые, как считают публикаторы. Это попытка найти новую религию, без которой таким поэтам, как Н. Клюев, невозможно жить и писать. Не зря сам поэт свидетельствовал, что поэма написана «сердечной кровью», «это самое искреннее и высоко звучащее моё произведение».
Каждый ли из нынешних литераторов мог бы сказать о своём творчестве подобное? Не каждый. Надо ещё найти себя, испробовать варианты: «быть как дети», Гарри Поттеры или кошки, начать с нуля или, наоборот, подобрать последние «листья» со своего письменного стола. Но может, наш пессимизм напрасен и всё это только «страхи напущенные»? Пишет же, например, Захар Прилепин в подборке «Я хочу рассказать вам…». Литературные события 2007 года» («Дружба народов», № 1), что «Всё лучше и лучше» пишут не только Р. Сенчин, но и многие другие, от Л. Данилкина до Г. Русакова. Достаточно изобрести «сыворотку» против литературной вялости и старости, и успех обеспечен.

Но если серьёзно, то писать по-настоящему можно лишь «сердечной кровью». Мощная энергетика письма может быть неуправляема. Да и энергопотери ещё велики, и энтропия нуля притягательна. Главное – найти точку отсчёта, остальное приложится.
, НОВОСИБИРСК
