Пьеса «Три сестры» была написана Антоном Чеховым по заказу Московского Художественного театра. Премьера состоялась в 1901 году, и спектакль имел колоссальный успех. На сцене блистали любимцы публики: Маргарита Савицкая (Ольга), Ольга Книппер (Маша), Всеволод Мейерхольд (Тузенбах), в роли Вершинина выходили Василий Качалов и сам Станиславский.

В 1940 году Владимир Немирович-Данченко решил вернуть на сцену «Трёх сестёр». Он создал совершенно новую постановку, ставшую одной из визитных карточек театра. За более чем 80 лет в спектакле сыграли легендарные артисты самых разных поколений: Алла Тарасова, Клавдия Еланская, Любовь Стриженова, Ирина Мирошниченко, Евгений Евстигнеев, Андрей Мягков… Роль Маши стала одной из важнейших в творческой биографии Татьяны Васильевны Дорониной.
Сегодня знаменитый спектакль Вл. И. Немировича-Данченко возвращается на сцену в новом составе! Режиссёр Сергей Десницкий бережно воссоздал спектакль, сделав переживания героев близкими и понятными зрителю XXI века.
Рассказывает Сергей Десницкий
Почему Чехов, почему «Три сестры» и почему сегодня?
Да потому, что Чехов – писатель, который писал жизнь. И он вечен и современен всегда, в любую эпоху, в любые времена. По любому поводу вы можете найти у Чехова ответы на многие вопросы, которые волнуют нас в нашей современной жизни. А спектакль Немировича-Данченко – это великий спектакль. Я не знаю более удачной постановки этой пьесы. Хотя видел я девять разных редакций у разных режиссеров, не только в России, но и в мире. Я видел спектакль Петера Штайна, спектакль Милоша Пьетора, но выше, чем у Немировича-Данченко ни у кого почему-то не получилось. И поэтому, думаю, это замечательная основа для того, чтобы опять поговорить о вечном благодаря замечательной пьесе Антона Павловича Чехова.
Насколько я помню, в середине восьмидесятых был фильм «Три сестры», мне кажется, что вы к нему имели самое прямое отношение.
Я снял этот фильм в тысяча восемьдесят четвертом году. Сняли в творческом объединении «Экран». Мы тогда снимали спектакли, это было в традиции. Я не могу сказать, что спектакль, который я снял, соответствует тому, что хотелось бы, скорее, наоборот. Состав был не самый удачный, потому что по возрасту актеры были гораздо старше своих героев, и иногда это выглядело, мягко говоря, странно. У Чехова есть точная реплика в первом действии. Ольга говорит: «Мне двадцать восемь лет». Роль играла актриса, которой было далеко за пятьдесят. И вот эти смещения не позволяли сделать спектакль таким, каким он должен был бы быть.
Я с «Тремя сестрами» связан, страшно подумать, с 1968 года. Когда я выпускался в школе-студии, я играл Кулыгина в дипломном спектакле. А здесь так получилось, что Олег Александрович Стриженов заболел, я пришел в театр получать зарплату, в кассе меня встретил Владимир Семенович Давыдов. Говорит: «Пошли срочно в верхнее фойе». Я говорю: «Зачем? Что?» – «У нас завтра показ “Трех сестер”, завтра сдача спектакля, ты должен сыграть». – «Я не играл Тузенбаха, я играл Кулыгина». – «Не важно, ты текст знаешь?» У меня память была такая, что если я играл в пьесе, я знал ее всю наизусть. Он говорит: «Так и все, больше ничего не надо. Пошли». Привел меня в верхнее фойе, там сидят артисты перепуганные, потому что действительно завтра должна была сдача быть. А спектакль готовился для поездки в Японию на гастроли осенью. А это происходит все в июне. И сидят: Татьяна Доронина, Ирина Мирошниченко, Светлана Коркошко – три сестры. «Он сыграет, он знает текст, покажите ему мизансцены». Делать нечего, они показывают мне мизансцены. Я всегда мечтал сыграть Тузенбаха! А тут такая возможность! Мы порепетировали, показали. И вот с шестьдесят восьмого года я связан с этим спектаклем.

Прошло время, и в восемьдесят втором году Олег Ефремов назначил меня режиссером, который курирует «Три сестры». И дальнейшие вводы в этот спектакль Евстигнеева и Невинного, перемены в женском составе уже осуществлял я. И так получилось, что я в этом спектакле сыграл все мужские роли. Последняя была Чебутыкина.
В девяноста четвертом Вячеслав Невинный провалился в люк на сцене, когда играл в спектакле «Тойбеле и ее демон». Высота была примерно метра три с лишним. Он упал, шесть ребер сломал. К счастью, только ребра, но через два-три дня юбилей Ефремова – семьдесят лет. Юбилей решили отметить в Петербурге в Балтийском доме спектаклем «Три сестры», а Слава играл Чебутыкина. А я до этого играл все роли, кроме Чебутыкина. Вызвал меня Ефремов и говорит: «Я умоляю тебя, сыграй». И вот эту роль я сыграл на юбилее Ефремова. Потом, пока Слава не выздоровел, я играл ее в Москве. Я, возможно, сыграл не шибко, потому что у меня была всего одна репетиция с Ефремовым, и на этом все закончилось. Но я счастлив, что я имею к этому спектаклю самое прямое отношение. Поэтому сейчас, когда мне представилась такая возможность, я с удовольствием за это взялся.
Спектакль был восстановлен Клементьевым два года назад, и он сделал точную копию. Больше того, актеры нашли экземпляр помощника режиссера, куда этот помощник записал все мизансцены, все нюансы, все-все-все было записано в этом экземпляре. И ребята сами себя вводили вот по этому экземпляру. Они молодцы, честь им и хвала. Я был на премьере этого возобновления, это было достойно. Но спектакль получился неживым. Копия – всегда копия. В данном случае это было так. На премьере Алексей Борташевич, театральный критик и педагог, высказался: «Зачем реанимировать труп?» Имея в виду спектакль. Я больше всего боюсь, что он скажет эту фразу, посмотрев тот вариант, который мы сейчас делаем. Я считаю, что спектакль должен быть живой. Копию того, что сделал Немирович, я сделать не могу. То есть по фотографиям я могу мизансцены построить, тем более есть даже записи этих мизансцен. Декорации будут те же – Вячеслав Окунев из Питера сделал новый вариант этих декорации сообразно пространству сцены, потому что пространство совсем другое, чем на Камергерском, где работал Дмитриев. Это тоже будет похоже на то, что было у Немировича. А артисты у меня другие. У меня нет ни Ливанова, ни Степановой, ни Еланской, ни Тарасовой, ни Болдумана. Артисты другие. Одни человек, который смотрел репетицию, остановил и сказал: «Нет-нет-нет, здесь было не так». Я говорю: «Слушай, дорогой мой, ну было не так, а сейчас будет вот так». Ведь только когда делаешь копию, она вне времени.
И вот я взялся за это дело, правда, спросив Кехмана, имею ли я право отступить. Он сказал: «Делайте, как считаете нужным, но спектакль должен быть живым» И вот мы сейчас этим занимаемся. Причем поначалу я даже испытывал какой-то страх. Думаю: «Если я посягну на великое имя Немировича-Данченко, голову мне оторвут». Да и артисты к этому отнеслись сначала так как-то с опаской. Мол, а как, нас не убью за то, что мы сейчас делаем?
Мой козырь в этой работе заключается в том, что я иду от того, что написал Антон Павлович Чехов. Дело в том, что там столько загадок, что сейчас, когда мы уже прошли большой путь, мы нашли столько неожиданностей и столько нюансов, что оторопь берет. Все это до сих пор пропускалось. Я это говорю не потому, что мы гениальней Немировича-Данченко и увидели больше, чем увидел он, дело не в этом. Во-первых, изменилось время. Немирович делал спектакль в сороковом году. Только что прошла самая большая волна репрессий. Поэтому надо было ставить спектакль не так, как он заканчивается у Чехова. А он заканчивается пессимистически. Четвертое действие – не березовые аллеи, как у Немировича, а еловые аллеи. А еловые аллеи другие, чем березовые. Березовые – прозрачные, светлые, а еловые – черные, темные. И так далее, и так далее, и так далее. Потом Немирович ставил спектакль с тем, чтобы был такой оптимистический, бодрый, хороший финал. Что всегда присутствовало в советских спектаклях той поры. А у Чехова финал совсем другой: убивают Тузенбаха, семья разбросана, они все в разных местах, дом вот-вот выставят на торги из-за того, что у Андрюши долг тридцать пять тысяч. И вот, ковыряясь в этой пьесе, мы нашли очень много живых и, как мне представляется, настоящих вещей. И артисты пошли со мной, согласились.

Представьте себе, пьеса начинается с того, что Ольга говорит монолог: «Отец умер ровно год назад, как раз в этот день, пятого мая, в твои именины, Ирина. Тогда шел снег». Короче говоря, она рассказывает то, что было год назад. Кому она это рассказывает? В комнате кроме нее ее сестра Ирина и ее сестра Маша. Можно подумать, что они не были здесь, когда умер папа, и Ольга рассказывает им о том, что случилось год тому назад. Или они все напрочь забыли о том, что было год назад, и она им напоминает. У меня это всегда вызывало недоумение: зачем это рассказывать? Сестры все прекрасно знают. Отец умер год назад, там была такая погода, стреляли… Зачем? И, поразмыслив, прочитав внимательно пьесу, особенно ремарку, я обратил внимание на то, что Маша в черном платье. Что будет сейчас в доме? Именины Ирины, сама Ирина в белом, все собираются праздновать, а Маша приходит в черном. Что это такое? Случайность? Или она всегда ходит в черном? И я вдруг понимаю: все собираются праздновать именины, а Маша пришла помянуть отца. Просто на это раньше никто не обращал внимания. Именно на это обстоятельства. Тогда придумали: «Это экспозиция, надо же зрителю дать понять, что происходило…» И когда я предложил артистам это учесть, вдруг все встало на свои места.
Вот представьте: у меня праздник, и приходит мой брат, одетый в траур. Что это значит? Это значит, весь праздник летит в тартарары, его нет. Один герой его гробит. Тогда монолог Ольги становится понятен. Год целый был траур, в доме не было ни одного праздника, не отмечали. И вот теперь прошел год, у Ирины именины, хоть давайте отметим. Не поминки устроим, а именно праздник, тем более что папа был очень сурового нрава человек, судя по их репликам. Андрей говорит: «После его смерти я стал полнеть». Почему? Отпустило. «Отец приучил нас вставать в семь часов, теперь Ирина просыпается в семь и, по крайней мере, лежит до девяти о чем-то думает». Воспитание было жесткое. Три языка девушка знает. В Перми. Зачем в Перми три языка? Зачем он их гнобил так, что вздохнуть не могли? И когда батюшка почил, при всем их горе, они испытали облегчение. Давайте отметим именины Ирины. Ну все-таки год ничего не было. Договорились отметить, а Маша нет. И вот они сейчас здесь собрались, стол накрыт, подарки уже подарили. А она была на кладбище, потом заказала панихиду. То есть она как христианка, она сделала все, как полагается. И поэтому именины с самого начала испорчены. С этого начинается пьеса Чехова «Три сестры». У Немировича этого нет.
Когда меня вводили, Иосиф Моисеевич Раевский, режиссер этого спектакля, мне говорил: «Светло, радостно, это замечательный чудный день». А на самом деле все начинается, в общем, со скандала. И, кстати говоря, у Чехова это довольно распространенный прием в его драматургии. К примеру, «Дядя Ваня» тоже начинается со скандала, а не с какого-то милого чеховского настроения. И здесь – Ольга говорит, а что делает Маша? Свистит. И Ольга как педагог, как учительница гимназии говорит: «Не свисти!» И дальше они все стараются, те, кто хотят, вернуть эту атмосферу именин. И не получается. И заканчивается это линия в пьесе тем, что Маша вообще встает. «Ты куда?» – «Домой». Как уходить с именин? Странно. «Ладно, прощайте. Я иду домой». Кажется, теперь полный каюк именинам.
Но приходит Вершинин. А Вершинин – москвич, который бывал у них в доме, который знал их маленькими. И его приход вдруг оказывает такое воздействие, что они увлечены все воспоминаниями о том времени, когда была жива мама, когда они жили в Москве, когда все было хорошо. Они забывают совершенно о папе. В конце концов Маша говорит: «Я остаюсь завтракать». И чуть дальше Маша, которая до этого была строга и аскетична, которая вернулась с панихиды, говорит: «Выпью рюмочку вина, где наша не пропадала». И даже Кулыгин ей делает замечание: «Маша, ты ведешь себя на три с минусом». То есть вот она эта атмосфера, восстанавливается. Приходят офицеры. И все как бы вернулось в этот праздник. Вот сюжет первого действия. Он так никогда не игрался. Этого смысла там не было. Именно потому, что надо было делать спектакль, в котором все хорошо. И режиссер, который возобновлял спектакль, до меня, сказал: «Это спектакль про идеальных людей».
Во-первых, я не очень понимаю, что такое идеальные люди, потому что я их никогда не видел. Это первое. Второе – я не знаю, как это играть. А третье – я вообще считаю, что люди – это люди. И у каждого из них есть все. Они бывают идеальными, бывают отвратительными, бывают злыми, добрыми, какими хотите – в зависимости от ситуации. И мы начали изучать предлагаемые обстоятельства. И тут открылось много интересного. Наверное, что-то мы сочинили. Может быть. Хотя в своих изысканиях, в своих фантазиях я лично опирался на то, что написано в тексте. У Вершинина жена, которая время от времени кончает жизнь самоубийством, чтобы напугать мужа. У него две девочки. Поскольку мать время от времени травится, девочки остаются одни. А в третьем действии, когда происходит пожар, когда происходит такая катастрофа, Вершинин говорит: «Я бегу скорее домой, смотрю, мои девочки стоят босые на пороге, матери нет, суетится народ, бегают лошади, собаки». Мать бросила этих девочек и ушла. А они при вот этом кошмаре, пожаре, остаются одни. Почему, что такое? Как Вершинин, такой умный, интеллигентный, замечательный человек, как он может терпеть такую жену? И почему она так себя ведет? Неужели ей не жалко этих детей, которые стоят в одних рубашках ночных?
А все дело в том, что она не мать им, она мачеха. Вершинин говорит: «И мне бывает досадно, что у них такая мать». Странная фраза. Что значит “досадно”? Ты же, наверное, по любви женился. Так все дело в том, это мы так открыли для себя, и, когда я знающим людям, чеховедам, рассказал про эту версию, они сказали: «Убедительно и интересно». Девочки-близняшки – дочери первой жены Вершинина. Он женат во второй раз, говорится в пьесе. И она умерла в родах, когда родила этих девочек.
То есть Антон Павлович этого просто не уточнил?
Антону Павловичу это не надо. Там еще много таких вот тайн. Самая большая тайна – от чего умерла мама трех сестер. Сколько ей было лет, когда она умерла? Судя по пьесе – одиннадцать лет назад, указывается точный срок. Сейчас Ольге двадцать восемь лет, тоже указывается точная дата. Значит, когда мама умерла, Ольге было семнадцать лет. Ольга старшая, потом – Маша, потом – Андрюша и потом – Ирина. Сегодня Ирине двадцать лет. Разница между ней и Ольгой – восемь лет, а между ними Маша, Андрей. Значит, когда мама умерла, ей было, наверное, я так думаю, не больше сорока. Ну, сорок два – сорок три года. Но это не старая женщина. Значит, она умерла как-то внезапно. Отчего?

В третьем действии Чебутыкин напивается и в своем монологе он говорит, что третьего дня назад лечил женщину, она умерла и “я виноват, что она умерла”. Потом еще текст, а в конце он говорит: «И та женщина, что уморил в среду, вспомнилась, и все вспомнилось». Пошел – запил. В четвертом акте диалог с Машей. Она его спрашивает: «Вы любили мою мать?» – Он: «Очень». – «А она вас?» – «Этого я уже не помню», – отвечает Чебутыкин. В чем дело? Почему? И тут я вспомнил кончину одного своего товарища, известного очень артиста, которому сделали не тот укол. Ему стало плохо, приехала неотложка, не тот укол ему всадили, и он умер. И когда Чебутыкин говорит: «Все вспомнилось», он именно об этом говорит. Как он может вспоминать всю свою жизнь? «Все» – это то, что умерла та женщина, которую он любил. И он в этом виноват. И тогда, и сейчас – он виноват. И когда мы это прочитали, роль Чебутыкина стала чрезвычайно драматичной.
Насколько вся история приобретает такой дидактический смысл… Ведь эта необыкновенная драма происходи за семнадцать лет до Октябрьской революции. Если подумать, что ждет этих людей через восемнадцать лет, то действительно становится страшновато, потому что ясно, что счастья, о котором они говорят: «Через двести-триста лет жизнь будет необыкновенно прекрасной» – не будет. И вот когда раскапываешь такие обстоятельства, невозможно сделать слепок со спектакля Немировича-Данченко. И не надо делать мертвый спектакль, надо сделать такой, который бы увлек зрителя, заинтересовал.
Скажите, почему столько времени прошло, а люди обращаются к Чехову и ищут в его произведениях то, чего там раньше не видели? Насколько вообще Чехов актуален сейчас?
Очень, очень актуален. Я вообще, в принципе, ретроград, человек позапрошлого века. То, что сейчас происходит в нашем театре российском, я не принимаю. Я не принимаю наших отважных режиссеров, которые считаются гениями. Я перестал ходить в театр на эти новомодные спектакли, потому что я устал злиться. Я не хочу злиться, когда я прихожу в театр. Для меня театр – не развлечение, отнюдь. Сегодня я немощен, играть не могу, потому что плохо позвоночник работает, но когда я выходил на сцену, я испытывал счастье от того, что, когда у меня возникал контакт со зрительным залом, мы вместе делали спектакль. То есть я играл, а они вместе со мной переживали. Вот это для меня театр. Живой театр.
Возьмите любую пьесу, любого автора, если спектакль вызывает в зале отклик, если зритель волнуется, то это современный театр. А если пришел развлечься и просто сидит, смотрит – нет. Развлекаются в варьете, на аттракционах, на разных шоу. А театр – вещь совершенно другая. И, готовясь к тому, что нас разнесут в пух и прах, в письме Немировича-Данченко Ольге Сергеевне Бокшанской – это его секретарь, была им до самой смерти – я откопал такой кусочек. Немирович пишет: «Любую пьесу Чехова каждый раз надо ставить заново. Только не нужно выдумывать специально какие-то средства и приемы, надо подойти к ней со всем нашим пониманием и нашими обычными средствами. Но с нашими сегодняшними глазами и чувствами». Подчеркиваю: “нашими” и “сегодняшними”. А не глазами хорошего музея.
Давно, восемнадцать лет назад, я написал пьесу, которая называется «Мифический муж и его собака», эта пьеса о взаимоотношениях Чехова и Ольги Леонардовны. Она его называла “мой мифический муж”, а он ее называл “собака моя рыжая”. Эта пьеса про то, как Чехов, будучи невероятно больным, писал последние две пьесы: «Три сестры» и «Вишневый сад». Художник у меня был Саша Окунь, который в Америке живет. Он по электронной почте присылал все свои рисунки, все было оформлено интерактивным способом. Наш спектакль заканчивался смертью Чехова. А декорации были сделаны фотопутем, панно зала Московского художественного театра в Камергерском переулке. Спектакль заканчивался тем, что это все сгорало. Чехов умирал, звучал колокол, гас свет. И начинался пожар. И этот театр сгорал. Это было при бывшем руководителе Боякове, который умолял меня: «Не надо пожара. Это чересчур». Я говорю: «А что вас пугает?» «Ну как? Вы делаете, что Художественного театра нет». Я говорю: «Спокойно. А вы считаете, он есть?» Когда я пришел в этот театр, а это был – страшно подумать – шестьдесят четвертый год прошлого столетия, тут такие были артисты. Оторопь берет. Как в «Чайке» у Чехова говорит Шамраев: «Пала сцена, Ирина Николаевна! Прежде были могучие дубы, а теперь мы видим одни только пни». Это беда. Потому что уходят личности.
Есть ли у вас ощущение, что сейчас у актеров стандартный подход сменился на заинтересованный?
Я не хвастаюсь: со мной хотят работать.
То есть вы в спектакле победили.
Да. Я их убедил в том, что это интересно. И это самое главное, это правда. Правда, что когда ты выходишь на сцену, ты не поешь, ты не рассказываешь сказки, ты не просто читаешь текст, а ты живешь. И когда ты живешь, то не надо никаких специальных интонаций, говори так, как ты говоришь в жизни.
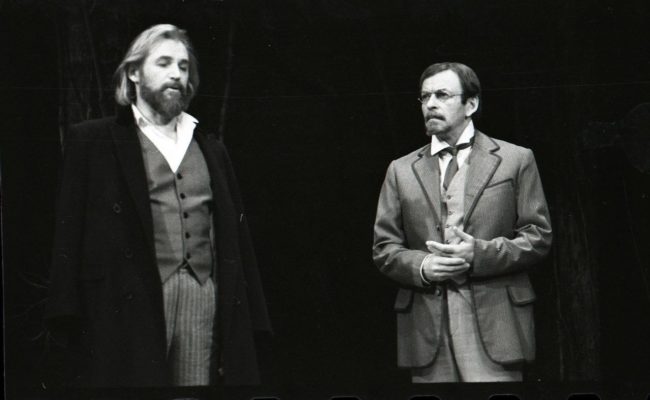
Понимаете, есть, как говорили, театр представления и театр переживания. А есть еще один театр: театр представления переживаний. Вот это было здесь. На одной репетиции актрисе я говорю: «Солнышко, тут же ситуация простая, что ты там играешь? Ты просто попроси, чтобы он ушел. Вот и все». Говорит: «Как?» Я говорю: «Вот так. Попроси». И вдруг она просто человеческим языком говорит: «Уходи». Потом поворачивается ко мне, говорит: «Ой, как хорошо, как легко». Вдруг вот эта живая интонация! Долго со многими мне приходилось биться, доказывать, убеждать. И вдруг они заговорили человеческими голосами, причем не один, не два, а все. И даже те артисты, которые до этого что-то такое придумывали, изображали какие-то образочки, характеры, вдруг по-человечески заговорили. И я вижу, как им самим нравится то, что они делают. После такой репетиции я сказал: «Вот теперь я верю, что это может быть».
Я считаю, что если у вас подход к пьесе победил, то это обязательно почувствуют зрители.
В том-то и дело. Я сейчас расскажу, с чего все это началось у меня лично. Ввожу я в роль Чебутыкина в «Трех сестрах» Евгения Александровича Евстигнеева. В первом действии есть такой момент, когда раздается стук. С первого этажа стучат сюда, на второй этаж, в пол. Он говорит: «Зовут меня вниз. Я сейчас приду, подождите». И уходит. Никто никогда не задавался вопросом о том, кто это стучит и почему. И только Евгений Александрович Евстигнеев на репетиции спросил: «Слушай, а кто это стучит? Зачем?» Я говорю: «Женя, я не знаю. Правда, не знаю. Никогда не думал об этом». Он говорит: «Ты режиссер, должен знать».
Я голову сломал. Кто стучит? Зачем? В сюжете у Чехова ничего нет. Стук – и все. И он уходит. Потом возвращается. Стоп! А с чем он возвращается? Денщик выносит серебряный самовар, который Чебутыкин дарит Ирине. Я как-то собираюсь на репетицию, открываю ящик кухонного стола, а там лежит серебряная ложка черного цвета. Серебро же чернеет. И мне стало все понятно. Чебутыкину надо Ирине подарить подарок на именины. Он решил про себя, что он подарит свой серебряный самовар, который ему не нужен. Он живет у трех сестер, он у них столуется, ему самовар не нужен. А то, что это его самовар он напрямую говорит: «Ну к чему мне все это?» Говорит он это, показывая на серебряный самовар. Но когда он открыл этот сундук свой, в котором этот самовар хранится, он увидел его черным. И он тогда посылает денщика за зубным порошком. Усаживает его, денщик драит этот самовар. А Чебутыкин, бедный, ходит и ждет, когда же он даст знак, что самовар готов. И наконец – стук.
И у Чехова написано: «Поспешно уходит». Поспешно, потому что надо выяснить удалось или нет. И потом, когда удалось, у Чехова в ремарке: «Выносит серебряный самовар». Хоть один зритель понял, что дело в этом? Да никто, никому до этого дела нет. Но самое главное, Евгений Александрович теперь знал, кто стучит и почему, поэтому он играл уже по-другому. В принципе, игра его ничем не отличалась, но он уже точно знал.

Как я понял, вы даже в процессе постановки что-то находите новое, у вас больше открытий?
Я уже боюсь. Вы знаете, как мне сказал один артист, когда я ставил спектакль, а я люблю менять. Он терпел, а потом сказал: «Слушай, ты мне надоел. Ты же уже поставил. Что ты меняешь? Ну да, так лучше. Но мне что, каждый раз надо будет все перестраивать заново? Останавливайся». Надо, конечно, остановиться. Работа раззадоривает, и тебе хочется еще. И я же сам себя предложил. Я не знал Владимира Абрамовича Кехмана совершенно, но пришел и сказал: «Я готов помочь вам возродить “Три сестры”, это спектакль, с которым я связан долгие годы». И в три минуты он решил. И теперь я сижу и радуюсь, мне безумно интересно на репетициях. Посмотрим, что получится.
А мне было очень интересно вас слушать, это как детектив, высокохудожественный, для меня это открытие живого Чехова. Уверен, что и сам спектакль по-новому откроет для зрителя вечно живую пьесу Чехова. Удачи! И чтобы никто не ушел обиженным.
Сергей Глебович Десницкий (род. 4 апреля 1941 года в городе Горьком) — советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссер, заслуженный артист РСФСР. В 1962 году окончил Школу -студию МХАТ, курс Г. Герасимова и А. Карева. В 1964 году был принят в труппу Художественного театра.
В качестве режиссёра-ассистента Сергей Десницкий участвовал в постановках Бориса Ливанова, а в дальнейшем — Олега Ефремова. После раскола МХАТа в 1987 году стал актёром МХТ им. Чехова. В 1990 году вместе с женой, актрисой Еленой Кондратовой (Десницкой) организовал собственную антрепризу, поставил три дуэтных спектакля: «Дама с собачкой» А. Чехова, «В Париже» И. Бунина и «Мастера и Маргарита» М. Булгакова. С 1991 года — актёр московского театра «У Никитских ворот». В 1997 году вернулся в МХТ имени Чехова играет графа Орсини и барона Ван Свитена в спектакле «Амадей». С января 1999 года возглавляет Мемориальный Чеховский театр в Мелихове.
Беседу вёл Александр Савин Портал CultVitamin, Новосибирск

