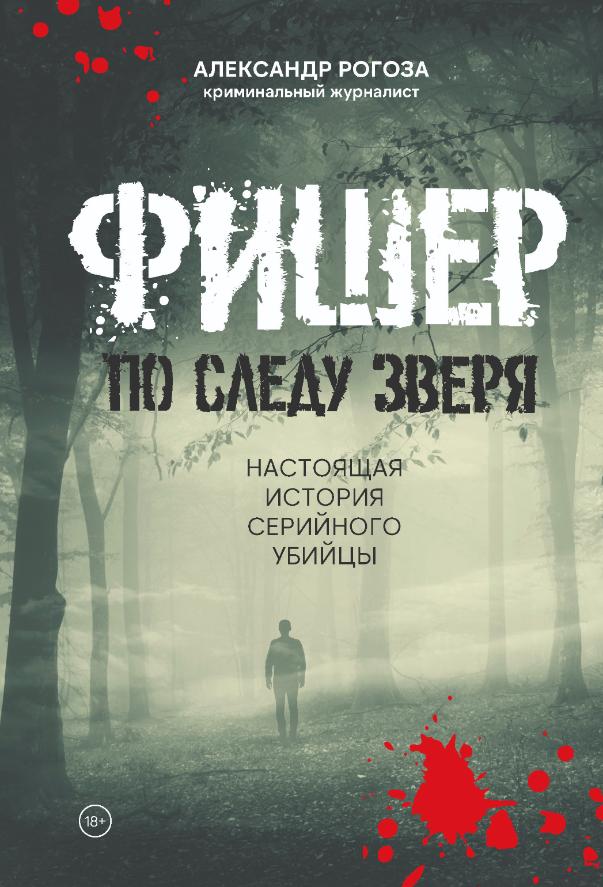
Виктория Пешкова
Александр Рогоза. Фишер. По следу зверя. — М.: ИД «Комсомольская правда», 2025. — 384 с., илл.
Жанр «настоящий детектив» (такая замена кальки с английского true crime представляется нам более чем обоснованной) уверенно набирает популярность и в литературе, и в кинематографе. Однако большинство произведений, помеченных броской строкой «Основано на реальных событиях», как правило, жертвуют подлинными фактами ради того, чтобы потуже закрутить сюжет, до краёв, а лучше – через край, наполнив его страданием, кровью и ужасом. От реального уголовного дела в таких историях, в лучшем случае, остаётся только подлинное имя преступника. И значит, никакой это не «настоящий детектив», а не знающий удержу разгул авторского воображения. А, следовательно, сам термин, мягко говоря, не совсем некорректен.
Свежий пример – сериал «Фишер», снятый на основе материалов следствия по делу серийного убийцы-маньяка Сергея Головкина. Первый сезон был представлен в 2023 году, второй вышел в минувшем мае. По мере увеличения числа серий сюжет всё дальше уходит от того, что в действительности происходило в Одинцовском районе Подмосковья с 1986 по 1992 год. У кино свои законы. По нынешним временам это, в первую очередь, зрелище. Информация к размышлению – опция необязательная. Но раз уж тема поднята и интересна большому количеству людей, стоило бы рассказать непридуманную историю маньяка, лишившего жизни одиннадцать ни в чём не повинных детей, зверски надругавшись над их телами. Самому младшему мальчику было 10 лет, старшему – 15.
Специальный корреспондент «Комсомолки» Александр Рогоза решил провести собственное расследование. Он тщательно изучил 95(!) томов уголовного дела по «одинцовскому маньяку», встречался со следователями и свидетелями, с родственниками Головкина и людьми, близко его знавшими. Результатом стала книга «Фишер. По следу зверя», вышедшая в издательстве «Комсомольская правда». В ней ничего не придумано, по соображениям этики опущены некоторые совсем уж шокирующие подробности. Жанровое определение очевидно – документальный детектив. И оно представляется гораздо более точным, чем англизированый тру-крайм.
Александр начал с места самого первого убийства – станция Катуар Савёловского направления, окраина одного из рабочих посёлков, граничащая с лесом. Как потом признается Головкин, это место показалось ему достаточно глухим, чтобы попробовать «поохотиться на подходящих мальчиков». Противопоставить правду вымыслу – профессиональное кредо криминального журналиста. Однако со времени описываемых событий прошло более тридцати лет. Так ли уж необходимо сегодня ворошить прошлое? Этот вопрос мы не могли не задать автору.
— Есть такое мнение, я думаю, вы его не раз слышали, – делится с «ЛГ» своими соображениями Александр Рогоза, – якобы подобными книгами писатели только «пиарят» серийных убийц. Мол, зачем вы про них пишете? Этих упырей уже давно бы забыли! Да, тех, из прошлого, в большинстве случаев, действительно забыли. Но на смену им приходят новые, отбирая жизни у новых невинных жертв. К сожалению, серийные убийцы будут всегда. Вместе с экспертами-психиатрами мы проследили жизнь Сергея Головкина с рождения и до вынесения приговора. Моя книга – это ответ на те сочинения, где как раз маньяков пытаются выставить жертвами обстоятельств. Мол, они не виноваты, что выросли убийцами и садистами, просто их ребята в школе обижали… Я писал всё строго по показаниям его родных, знакомых, людей, пересекавшихся с Фишером в разные периоды его жизни, а также по экспертизам. И в книге всё изложено максимально объективно: не было в детстве Сергея Головкина каких-то исключительно негативных обстоятельств, которые заставили его стать Злом! Он сам таким стал, сам взрастил в себе зверя.
Одним из экспертов, проводивших по просьбе Александра Рогозы посмертную экспертизу Головкина, был врач-психиатр Василий Бейнарович, автор популярного канала Faust21century, на котором разбираются истории самых жутких серийных убийц как былых времён, так и нынешних. В случае маньяка Головкина-Фишера всё достаточно обыденно. Семьи, где родители не стремятся к эмоциональному контакту с детьми – не редкость. Ситуация, когда младшему ребёнку уделяется больше тепла и внимания, чем старшему – тоже достаточно распространена. И изгои есть практически в каждом классе. Так что, в целом, его жизнь протекала в неблагоприятных, но никак не катастрофических обстоятельствах. Вопрос, обращённый к Василию Бейнаровичу, напрашивается сам собой: почему одни их преодолевают, а другие превращаются в монстров?
— Простых ответов на него не существует, – уверен Бейнарович. – Каждый человек – особенная структура. Кто-то в результате психотравмирующих событий становится сильнее, для таких людей трудности становятся ступенями на пути к совершенствованию. А кто-то ломается и начинает ненавидеть весь мир. Сергей рос замкнутым. Проблемы у него начали проявляться в раннем возрасте: энурез, если он не обусловлен сбоем в работе соответствующей системы, является важным показателем психологического напряжения, которое испытывает ребёнок. Но родители врачам его не показали, решили, что само пройдёт. Близкие вообще не интересовались его переживаниями никто никогда не интересовался: обут, одет, сыт, в школу ходит – значит, всё нормально. Ему, похоже, так никто и не объяснил, что такое хорошо и что такое плохо. И мать, и отец спокойно признавали, что на серьёзные темы, включая вопросы пола, с сыном не разговаривали. А он всё глубже уходил в свои садистические фантазии, в тесный мирок отверженности и непонимания. С рождением дочери, Сергею тогда было десять лет, мать всё своё и так не слишком щедрое внимание отдала ей. Отец был доминирующим, агрессивным. Ни он, ни мать не одобряли увлечения сына лошадьми и выбор профессии зоотехника. А это был своего рода сигнал о том, что ему с животными общаться легче, чем с людьми. В классе он настоящим изгоем не был. Никто из одноклассников, с которыми общался Александр Рогоза, не мог вспомнить случаев открытого издевательства над Сергеем. Наоборот, соученики его просто не замечали, он для них оставался «никаким». А его уже обуревали фантазии о том, как он мучил бы их, если бы имел такую возможность.
Сам Головкин объяснял совершённые им убийства желанием отомстить давним обидчикам. Однажды, когда он уже был студентом Тимирязевской академии, его поздно вечером избила компания четырнадцати-пятнадцатилетних подростков. Однако жертвы его преступлений к тем парням никакого отношения не имели. И кровожадность «мести» невозможно соотнести с нанесённой ему обидой, даже если она действительно имела место. Нарушение принципа адекватности для маньяков – норма?
— О каких таких принципах адекватности вы говорите? – удивляется психиатр. – Это обиженные и униженные люди, желающие мстить и получать удовольствие от садизма. Есть такое понятие – психодинамическая теория. В рамках своей садистической концепции они видят в любой жертве своих обидчиков. Реальных или потенциальных. В обычной жизни нечто подобное происходит с людьми, слишком глубоко переживающими измену партнёра: после этого они каждого, с кем могли бы построить новые отношения, подозревают в непостоянстве. Отчаяние после пережитой травмы очень быстро одолевает таких, как Головкин. Фантазии о том, как он причиняет страдания одноклассникам, посещали его, начиная с шестого класса. Вполне возможно, что у Сергея действительно была обида на кого-то из соучеников и нападение компании подростков он переживал очень остро. В результате он на всех мальчиков соответствующего возраста отзеркаливал своё состояние, перенося на них свою агрессию. Однако первое убийство он совершил спустя много лет после нападения. Но с каждой новой жертвой его жестокость только возрастала.
Головкин деградировал как личность, всё хуже контактируя с окружающими, включая самых близких людей – мать и сестру. Но прекрасно осознавал свои действия. Экспертиза, проведённая в институте имени Сербского, пришла к однозначному выводу: «Как сохранявшего способность отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими, в отношении инкриминируемых ему деяний Головкина С.А. рекомендуется считать вменяемым…» Подспудный расчёт преступника на психиатрический диагноз и дальнейшее лечение в закрытом учреждении не оправдался. В единственном письме матери из заключения он сокрушался о том, какое горе принёс ей. О том, в какой ад он вверг других людей – ни слова. На все вопросы следователей, почему он творил то, что творил, ответы были однотипными: «сам не знаю, интересно было, совладать не мог».
Часто приходится слышать, что в личности жертвы содержится ключ к преступлению. Только поначалу Головкин выбирал случайно встреченных в лесу ребят. С остальными он вступал в контакт заранее. Что привлекало этих мальчишек в Головкине?
— На этот вопрос можно дать вполне чёткий ответ – считает психиатр. – Существует специальная наука о жертвах – «виктимология». Да, первая жертва была совершенно случайно – мальчик поехал на велосипеде в лес, чтобы собрать берёзовый сок. Двух следующих он подкарауливал у пионерских лагерей – ждал, кто из ребят выберется через лаз в ограде, чтобы тайком покурить. Как видите – «прегрешение» совершенно невинное – кто из подростков этим не баловался? И дальше, простите уж за такую формулировку, он «тестировал» себя, проверял, насколько далеко способен зайти, и что сможет сделать. В дальнейшем он каждый раз предлагал мальчишкам либо «приключение», либо что-то запретное – распитие спиртных напитков, воровство. Соглашаясь, они оказывались в его власти.
Головкин был последним, к кому в России была применена высшая мера наказания – расстрел. Сегодня дают пожизненное. Но тема отмены моратория на смертную казнь по-прежнему волнует общество. Перспектива оказаться в «Полярной сове» или «Чёрном дельфине» душегубов не останавливает?
— Эти люди, – уверен Василий Бейнарович, – живут только своими желаниями, стремясь удовлетворить их в буквальном смысле слова любой ценой. Даже находясь в самых ужасных тюрьмах, они думают лишь о том, как выйдут и продолжат совершать преступления. Дискуссия о необходимости смертной казни будет продолжаться до тех пор, пока не появится хотя бы одно исследование, которое определило бы научно доказанные эффективные методы корректировки личности убийцы и насильника. А пока пусть эти люди работают в тюремных производствах на самых тяжёлых участках.
Не секрет, что в романе или на киноэкране следствие обычно представлено как череда эффектных сцен с погонями и схватками. В жизни всё прозаичнее – рутина опросов свидетелей, просеивание сквозь мелкое сито информации о сотнях людей в поведении которых что-то навело на подозрения, сопоставление улик и показаний. Кубометры сведений, мегаватты часов, а результата нет. Головкина искали шесть лет, Одинцовский район шерстили вдоль и в поперёк, но он ни разу не попал в поле зрения следователей и оперативников. Не только потому, что искусно заметал следы своих зверств. Головкин вёл двойную жизнь: на родном
конезаводе пользовался уважением как отличный специалист. В 26 лет его повысили в должности, назначив старшим зоотехником-селекционером – по тем временам для недавнего выпускника это был настоящий карьерный взлёт. Приказ был подписан 18 апреля 1986 года. А 19-го он совершил первое убийство. О том, что его наградили серебряной медалью ВДНХ СССР «за успехи, достигнутые в развитии коневодства», знали все. О том, что за два месяца до этого он убил очередную жертву не догадывалась ни одна живая душа.
Да, зверя в итоге вычислили и задержали. И загнали в угол – это был высший следовательский пилотаж.
— Я очень хотел, – признаётся Александр Рогоза, – сказать этой книгой спасибо сотрудникам прокуратуры и милиции, которые несколько лет преследовали это чудовище и в итоге остановили его. И я счастлив, когда слышу от читателей слова благодарности за то, что, читая книгу, они получают возможность пройти тот путь, который прошли следователи и понять, какой титанический труд был ими проделан.
Одним из собеседников автора стал Валерий Костарев, государственный советник юстиции 3-го класса, следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры России в отставке. В следственно-оперативную группу по делу Фишера его включили в 1992 году, когда в округе пропало сразу три мальчика. Именно Костареву серийный убийца Головкин дал первые признательные показания.
— Серийные убийства на сексуальной почве, – считает Валерий Евграфович, – одни из самых сложных для расследования. Обычные методики не подходят. Убийцу сложно вычислить – человек ничем себя негативно внешне не проявляет. Приходится искать по незначительным деталям, не бросающимся в глаза – сопоставлять, анализировать. Я вёл первый допрос очень осторожно, давая преступнику понять, что нам известно больше, чем мы говорим. Начал опрашивать по последним эпизодам исчезновения детей, не называя конкретных ребят. Нужно было его «накалить», заставить занервничать. И это сработало. Ночь в камере. Попытка суицида, которую мы поначалу приняли за попытку уничтожить какие-то важные улики на теле или одежде. Но, когда ему оказали первую помощь, он написал явку с повинной. И дал мне первые признательные показания.
Но с точки зрения закона, просто признаться в убийстве – недостаточно. Нужно рассказать детали, которые может знать только убийца. За годы расследования бывали случаи, когда некоторые убийства брали на себя другие люди, но при проверке показаний оказывалось, что это самооговор. К тому времени я уже много лет был в профессии и трупы часто приходилось видеть. До того, как стать следователем, долго работал прокурором-криминалистом. Приходилось выезжать на самые тяжкие преступления, в том числе убийства. Конечно, ко всему привыкаешь, но, честно говоря, когда имеешь дело с трупами детей, даже после стольких лет работы не по себе становилось.
В протоколе одного из первых допросов, в ответ на вопрос о том, как он себя сейчас чувствует, эта нелюдь не задумываясь ответила: «В настоящее время я себя чувствую нормально. Во время совершения преступлений я также чувствовал себя нормально. После убийств и расчленения трупов чувствовал какое-то удовлетворение. Настроение поднималось. Считаю, что с психикой у меня все нормально». Этого достаточно для того, чтобы не считать «несчастного» маньяка-убийцу «жертвой несправедливых обстоятельств». То, что он творил не может быть оправдано. Ничем и никогда.
Но почему тема убийц-маньяков так волнует «широкую публику» ещё со времён Джека Потрошителя?
— Этот интерес был, есть и будет, – полагает Василий Бейнарович. – Если объективно рассматривать всю историю человечества, то тема реальных преступлений была ещё до нашей эры. Просто в разные этапы истории она отражала свою эпоху. Интернет сделал своё дело в распространении данной темы. Не будем забывать и о том, что уровень стресса сегодня просто зашкаливает и для многих людей обращение к подобной литературе или кинопродукции становится способом хотя бы на время снять эмоциональное напряжение, которого становится всё больше.
Востребованность подлинного «документального детектива» объясняется очень просто. «Большинство читателей, – полагает Александр Рогоза, – обращается к подобной литературе в поисках ответа на два очень существенных вопроса: откуда берутся такие люди и как не воспитать маньяка из собственного ребёнка. Мне было важно не только воспроизвести ход расследования, но и разобраться, как обыкновенный с виду мальчик из ничем не примечательной семьи стал тем, кем стал». Главное отличие документального детектива от более или менее удачных подделок в том, что авторы, в нём работающие, видят в свою задачу не в демонизации или оправдании преступников, а в выявлении психологической подоплёки самого явления. Кто предупреждён, тот – вооружён.

