
Беседу вёл Максим Замшев
Олег Стрижак – один из лучших русских писателей. 9 ноября он бы отметил юбилей, 75 лет. Увы, его уже нет с нами. Роман «Мальчик», вышедший в издательстве «Городец» в серии «Книжная полка Вадима Левенталя» спустя почти три десятилетия после первой публикации, произвёл настоящий фурор. В преддверии юбилея писателя мы побеседовали с его сёстрами и хранительницами его духовного наследия – Юлией Стрижак и Никой Стрижак.
– Начну с вопроса, который, думаю, терзает многих поклонников романа «Мальчик». Кто из героев всё-таки ближе к Олегу Стрижаку – Мальчик или Литератор?
Ника Стрижак. Мне всегда казалось, что Мальчик. Хотя он, конечно, присутствует в обоих образах...
Юлия Стрижак. Ну конечно, Мальчик! Жалко, что роман не дописан, и мы не узнали больше...
Н.С. Он никогда не жил такой жизнью, какой живёт Литератор в романе.
Ю.С. Хотя у него был успех, конечно же. Причём ранний успех: его очень рано приняли в Союз писателей, он был самым молодым членом организации. Дали однокомнатную квартиру на Васильевском острове, в которой он и прожил. Он ездил встречаться с читателями, бывал в Дубултах, в Доме творчества писателей, куда давали путёвки. Начиналось всё очень хорошо: печатался, были деньги, был успех...
– Действительно, если говорить о биографии Стрижака, то вначале это – достаточно спокойная, классическая жизнь советского литератора: служба в армии, книги, связанные с подводным флотом... Жизнь, скажем так, не диссидентская, находящаяся в системе координат. Как возникла идея романа, который, очевидно, вряд ли был бы в советское время напечатан?
Н.С. Он, к слову, был напечатан практически в советское время, ушёл в набор ещё при существовании СССР... Думаю, Олег с этой точки зрения на свой роман не смотрел. Он долго над ним работал, писал больше семи лет...
– В «Мальчике» есть голубоглазый персонаж, вероятно, это отчим Олега Стрижака, мягко говоря, не очень положительный. Это, я так понимаю, какая-то очень личная история? Это близко к жизни?
Ю.С. Несмотря на то что Олег был совсем молодым, когда начал писать, за плечами у него было много страданий. Он рано потерял отца и, конечно, очень остро чувствовал это всю жизнь. И с отчимом (нашим с Никой отцом) у него были крайне непростые отношения. Так что, да, это близко к жизни.
– Глава про детство прямо-таки жёсткая...
Н.С. Всё-таки нельзя забывать, что это литература. Но то, что он ненавидел отчима, – правда. При этом маму всегда любил и ценил. И сигнальный экземпляр новой книги подписывал именно ей.
Ю.С. Сложность заключалась в том, что отец Олега и наш отец – братья. Наш отец – младший. Он всегда был влюблён в маму и через пять лет после того, как погиб отец Олега, развёлся со своей женой и появился в её жизни. Мама приняла его ухаживания и вышла за него замуж. История практически древнегреческая. И, наверное, то, что дядя Олега вдруг стал его отчимом, всё усугубило...
Потом, когда приняли решение отдать Олега в Суворовское училище, я думаю, у него самого никакого желания отправляться туда не было. Он был очень свободным мальчишкой: весёлым, озорным, неугомонным, авантюрным – заводилой, лидером всех компаний. Всё время что-то придумывал... И вдруг оказался в этой военной системе. Думаю, после смерти отца это тоже стало для него серьёзным ударом и испытанием.
– Вы прочли роман только после выхода?
Н.С. Да, он никогда не давал читать рукопись, не зачитывал отрывки вслух, как делают некоторые литераторы. Пока не издадут – никогда.
– Вы сразу поняли, что это выдающаяся книга?
Ю.С. Ну, во-первых, это же роман! Мы к тому времени обе уже окончили университет, обе – филологи и прекрасно понимали, что это такое – написать роман! Это была большая дерзость со стороны Олега. Потому что в таком возрасте полагалось писать рассказы и повести и постепенно их печатать...
Н.С. Он же ещё с работы ушёл, когда стал членом Союза писателей.
Ю.С. Да, решил жить литературным трудом.
Н.С. И это было так странно! Как же так: человек не работает! Мама, помню, переживала об этом.
Ю.С. Мы очень гордились! Тем более роман был прекрасен. И интерес к книге был большой, вся петербургская интеллигенция её обсуждала.
– То есть это миф, что при первом издании роман прошёл совершенно незамеченным?
Н.С. Отчасти. Конечно, кому надо – все прочли. У неё тираж был 50 тысяч – немыслимый ныне. Но Вадим Левенталь правильно написал об этом: в то время открылись архивы, хлынуло огромное количество «запрещёнки» – и читателям стало не до современной литературы.
Ю.С. Если бы он успел хоть немного раньше роман опубликовать, книга стала бы сенсацией.
Н.С. Тогда же всё рухнуло. Помню, я работала в газете «Смена», и, когда Олег получил гонорар за книгу, он составлял две или три моих месячных зарплаты. А я была молодым корреспондентом! То есть это было ничто... Он, конечно, рассчитывал, что ему заплатят деньги, на которые можно будет жить и писать. Думаю, это тоже стало чудовищным ударом.
Ю.С. Да, деньги обесценились. И к читателю стало сложнее подобраться. Вы же понимаете, что это роман для неторопливого, вдумчивого чтения.
– Как родилась идея переиздания «Мальчика»? Вадим Левенталь был инициатором? Павел Крусанов рассказывал мне, что они и при жизни Олега Стрижака пытались вступить с ним в переговоры, но ничего не вышло.
Н.С. Да. Олег в последние годы был, прямо скажем, очень тяжёлым человеком, очень закрытым. Вадим обращался ко мне с предложением переиздать «Мальчика», я передала брату его предложение, но не тут-то было...
Ю.С. Хотя мы много раз говорили с Олегом, убеждали, что Вадим – надёжный человек, он сделает всё как надо, ничего не упустит, не исказит.
Н.С. Когда мы повзрослели, начали работать и встали на ноги, у нас было несколько попыток уговорить Олега переиздать роман.
Ю.С. И написать что-то другое...
Н.С. И были люди, которые готовы были дать деньги. Но брат упёрся: нет, и всё.
Ю.С. Думаю, когда Вадим к нам обратился, брат был уже в глубокой депрессии, ему ничего не нужно было.
Н.С. Это было очень сложно, правда. А когда Олега не стало, инициатива Вадика и то, что он так внимательно и бережно отнёсся к этому тексту, стали для нас просто спасением. Мы очень довольны книгой: издание получилось прекрасное!
– Вы ожидали успеха? Было ли волнение, что роман опять пройдёт незамеченным?
Н.С. Было, конечно, потому что роман сложный, он рассчитан на очень умного, очень образованного читателя.
Ю.С. Ещё мы тревожились, сможем ли объяснить читателю, почему «Мальчик» вдруг переиздаётся, нужен был информационный повод. И то, что Вадим придумал, – «пропущенный шедевр», людей привлекло, роман был представлен на книжных ярмарках: и на non/fiction в Москве, и на Книжном салоне в Петербурге. Очень много людей приходило на встречи, которые проводили мы с Никой...
Н.С. Что приятно, нередко люди приносили с собой пожелтевшую, затёртую книгу – первое издание.
Ю.С. Многие говорили, что в 90 е это был своеобразный пароль: «Ты «Мальчика» читал?» – «Читал». Думаю, Олегу было бы приятно узнать, что есть люди, которые по-прежнему его читают. Более того, в Петербурге, оказывается, есть экскурсии по «маршрутам Стрижака»... Это замечательно!
– Были ли в семье разговоры о продолжении романа?
Ю.С. Конечно! Мы все думали, что он его пишет...
Н.С. Согласитесь, между изданием первой книги и смертью прошло очень много лет. И он постоянно что-то писал. Настоящая трагедия, что мы не знаем, где эти тексты. Мы ничего не нашли!..
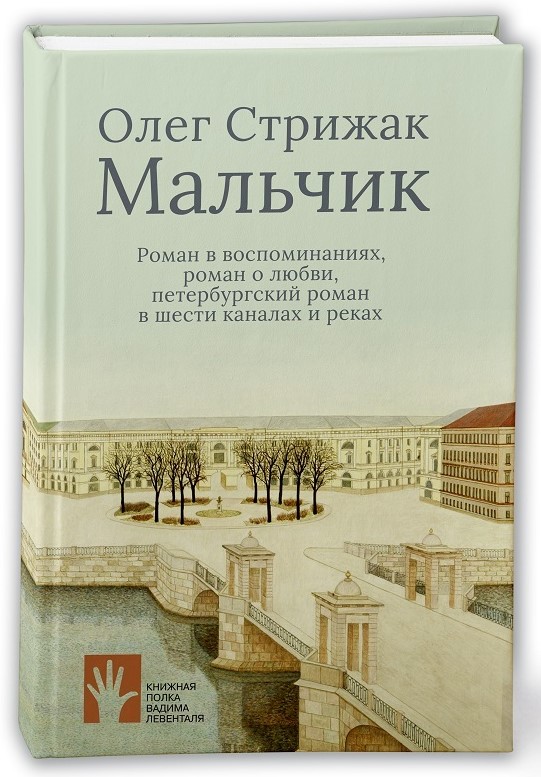
– Думаю, не все читатели знают, что роман «Мальчик» был издан во Франции и что за него Олег Стрижак получил премию Книжного салона Бордо. Расскажите об этом.
Ю.С. Французы сами нашли этот роман. Тогда уже открывались границы, связей стало больше. Издательство Albin Michel – одно из крупнейших во Франции – уже напечатало некоторых современных русских авторов. И вот они как-то вышли на Олега, дозвонились и сообщили, что хотят издать роман на французском языке. И к нам приехала знаменитая Люси Катала, директор отдела русских изданий, чтобы познакомиться и подписать договор.
Мадам была просто очарована Олегом. Говорила, что это начало долгой дружбы. А потом они прислали перевод...
Н.С. И на их беду Олег владел французским языком. И оказалось, что переводчик был чудовищно глуп и высокомерен: если он что-то не понимал, то не спрашивал автора. Он либо вообще это пропускал, либо переводил так, как сам понял. А в романе не только великолепный язык, но и огромное число исторических фактов. Он даже главного героя Мальчика самовольно называл Волчонком. Конечно, в тексте появилась масса ошибок. А в отношениях с издательством – трещина.
Ю.С. Олег был взбешён. Сперва пытался писать ему, что-то пояснять. Думал, что переводчик – его друг и единомышленник, и, когда они достигнут понимания, всё получится. Но тот, видимо, торопился или ему просто было всё равно. К замечаниям не прислушивался, делал, как считал нужным.
Н.С. Тем не менее роман вышел. Издание было красивое. Читателю «Мальчик» был подан как «продолжение традиции русского романа, заложенной Достоевским и Гоголем».
Ю.С. Брат ездил во Францию на презентацию, ему устроили автограф-сессию – у нас такого тогда ещё не было. Он рассказывал потом, как сидел в книжном магазине в Париже, подписывал книги... Каких-то существенных денег он за французское издание, к слову, не получил – по договору бульшая часть суммы должна была быть выплачена потиражно... Но они сделали очень важную вещь: то ли у издательства были связи, то ли действительно роман вызвал большой интерес, но они отправили его во все ведущие библиотеки мира. В Библиотеке Конгресса, во всех библиотеках крупных мировых университетов есть это французское издание.
Н.С. А ещё мы знаем наверняка, что его роман читал Нобелевский комитет.
Ю.С. Потом он получил литературную премию Бордо – в один год с Битовым. То есть в это время жизнь у него и правда была вполне успешная.
В этот период, который мы сейчас вспоминаем, он был очень весёлым, загульным, красивым. Носил модные кожаные пиджаки, сиживал с приятелями в ресторане Союза писателей, много общался, крутил романы с женщинами...
– А каким он вообще был человеком?
Н.С. Очень правдивым. Если кто-то ему не нравился как человек или как писатель – он не делал гешефтов. Не умел «дружить» ради выгоды.
Ю.С. А ещё он не выносил бытовые разговоры – всё это было для него невероятно скучно. Олег был аристократом духа. Ему было интересно говорить только о литературе и истории.
Н.С. Он был невероятно образован. Одинаково глубоко и интересно мог рассказывать и про «Слово о полку Игореве», и про Пунические войны, и про русский флот времён Первой мировой. Он был прекрасным рассказчиком.
Ю.С. И у него были колоссальная память, просто феноменальная, своя особая система знаний. И колоссальная интуиция. Он был человеком планетарного масштаба.
– Были ли авторы из классиков, кого он боготворил?
Ю.С. Во-первых, Пушкин, конечно. Может, это общее место: все любят Пушкина, но...
Н.С. У нас есть шеститомник Пушкина, весь в пометах Стрижака.
Ю.С. Пушкина он знал всего. Любил также Гоголя, Достоевского, Чехова. В меньшей степени – Толстого.
Н.С. Говорил, что у Толстого чувства юмора нет. Набокова он тоже любил.
И у нас, к слову, была потрясающая личная встреча с сыном Набокова! В 1994 году мы обе работали на телевидении и снимали фильм в Стокгольме. Нам позвонили с канала и попросили снять для новостей премьеру «Лолиты» в Королевской опере: музыка Щедрина, текст Набокова, дирижирует Ростропович. Мы отправились на съёмки, а Набоков уже покинул репетицию и потому пригласил нас приехать в отель. Мы приехали, он открыл дверь – и он был так похож на отца! Высокий, лицо благородное, бордовый с золотом шлафрок – настоящий барин. И, как только мы представились, он спросил: «А вы знаете, что в России есть такой писатель, ваш однофамилец – Олег Стрижак?» А мы в ответ: «Это наш брат!»
Ю.С. Он сказал, что «Мальчик» – это продолжение Набокова. Попросил передать брату его восхищение, приветы... Мы были очень удивлены. Всегда безумно приятно, когда кто-то так высоко оценивает работу Олега.
Вообще люди тогда, за железным занавесом, жили другой жизнью. Большая ценность была в знаниях, которые было трудно добыть и получить. Люди были очень образованные. И, когда Олег писал «Мальчика», в котором много разного рода ссылок – явных и скрытых, подразумевалось, что читателю не надо ничего объяснять, что он всё считывает, всё знает, до всего этого дошёл...
Тем ценнее, что сегодня, в эпоху Интернета, такие книги по-прежнему находят своего читателя. И по-прежнему служат своеобразным «паролем».
Священный холод
Олег Стрижак
* * *
История враждует, как сонет,
совьётся в непокорную секстину,
учебник всё уложит в триолет,
а Данте вечность преложил в терцину…
Страдание забвением затмив
и рану обратя в ампирну раму,
живая жизнь всё превращает в миф
и эпиграмму.
* * *
Мрамор помнит себя
Афродитой, Фемидою, Зевсом,
Лаокооном орущим сквозь трагедии
гибельный рот:
алтари, доски памяти, цезари
и басилевсы
и усмешливый, с тихой угрозой Эрот…
Бронза помнит себя мечом,
исчерпáющим жизни,
и над бронзоволатною поступью
тяжких когорт:
знак служения вечной, загадочной,
тайной Отчизне,
был клювастый и яростный,
в бронзовых перьях, орёл распростёрт.
* * *
Храм осени, священный холод.
Любовным счастием даря,
В осеннем инее восходит
Заря, корона ноября.
Из этих скал и вод Луны:
Вязь тайны, боевые тропы,
Все короли зари Европы
И северные колдуны.
Но учится, в глуши, ночами,
Вино подделывать Париж…
А Ты болеешь. Ты печальна.
Ты обернулась. Ты горишь.
И снег ложится умолчаньем.
Всё существует вечно
Анна Чухлебова
«Господи! мальчик, где же ты был прежде? я так без тебя исстрадалась…» – не мои слова, конечно. Это Насмешница, главная героиня романа, та ещё актриса. И не то чтобы я молила небеса о романе «Мальчик», написанном на одну шестую, частично утерянном, с гигантской сноской, выросшей в отдельный роман «Вариант» – кто ж в своём уме молит о подобном счастье. Но, как и со всеми подлинными находками, достаточно быстро случается узнавание – здравствуй, «Мальчик», именно тебя мне и не хватало.
Убавим градус сантиментов, проведём инвентаризацию. Есть первая часть, она называется «Фонтанка», в заглавии: «…роман в шести каналах и реках». Значит, другие реки уж впали в Лету, нет их. Два основных рассказчика – литератор Сергей Владимирович и, собственно, сам Мальчик. Сергей Владимирович написал и сжёг роман о Мальчике. Текст от лица Сергея Владимировича – это воспоминания о былом, о женщинах и писательской славе. Имейте в виду, он «любит прилгнуть». Сам Мальчик – чище, злее и опаснее, у него дар к концептуализации. При первой встрече Мальчик жестоко избивает Сергея Владимировича, а позже и совсем ему ломает жизнь – нам точно не сообщают, как, но причиной всему Насмешница. Другая фигура, с которой Мальчик символически борется, – собственный отчим. Зачем ему нужны те, кто называл вещи до него? Мальчик верит, что он справится лучше.
Но это всё, в сущности, сюжетная возня 60–80-х годов прошлого века. Никогда ведь не бывает всего лишь скамейки в Летнем саду, на которой просто что-то происходит. От явного, существующего здесь и сейчас, расходится грандиозная паутина тропок в прошлое и варианты развития событий. Огромная сноска, по сути, начавшаяся ещё как часть основного текста в первой главе, – это прямая речь Насмешницы. В ней Пётр и Екатерина, Пушкин и Ахматова, бесчисленные исторические анекдотцы и прозрения о смысле всего. «…любое мгновение длится всегда! всё существует вечно, я в том уверена» – такой ко всему нашёлся в тексте ключик. Ещё есть загадочная тетрадь с листами в зелёную клетку – это в четвёртой главе. Можно рассматривать как приложение к сноске, но уже с неизвестным повествователем.
Как во всём этом разобраться? В переиздании в «Книжной полке Вадима Левенталя», в «Городце», есть симпатичный гид от Фигля-Мигля. Дело в том, что нас не предупреждают о смене повествователей, и даже при разных их голосах это сводит с ума. Я понимаю, что совет звучит примерно как «используйте при ходьбе ноги», но всё-таки держите в голове, кто именно сейчас говорит, – это многое облегчает. Текст настолько хорош, что уже этим сбивает с толку, золото, которое захочется сохранить, подстерегает нас буквально на каждой странице. Полезно бы знать, что в конкретном случае его произносит, скажем, милиционер, который допрашивает Сергея Владимировича после встречи с кулаками Мальчика.
Вопрос главный – зачем с этим разбираться, когда над шеей висят вечно недочитанные мировые классики Пруст и Джойс. Смысл «Мальчика» считывается через простую формулу: «плюсы, минусы, подводные камни», приложимую к бытию в качестве творца-литератора, к жизни в Петербурге и жизни в империи вообще. Не это ли всегда нас волнует?
И последнее. Писать книги, в общем-то, довольно глупое занятие – с большим успехом можно плясать в тик-токах, и никто не осудит. Создавать штуки на основе литературного текста – так бы я сформулировала подлинную задачу писателя. Штука получается, когда реальность текста подминает под себя реальность обыденную и заражает её искусством. Роман «Мальчик» – это именно штука, притом высочайшей огранки, смешно, безжалостно и нежно вглядывающаяся в суть вещей. И ведь лежат же где-то две опубликованные, но утерянные главы. Петербуржцы, заклинаю, смотрите, чем вы топите камины! «...мальчик, где же ты был прежде?..» Мы тебя всё ещё ищем, «Мальчик».

