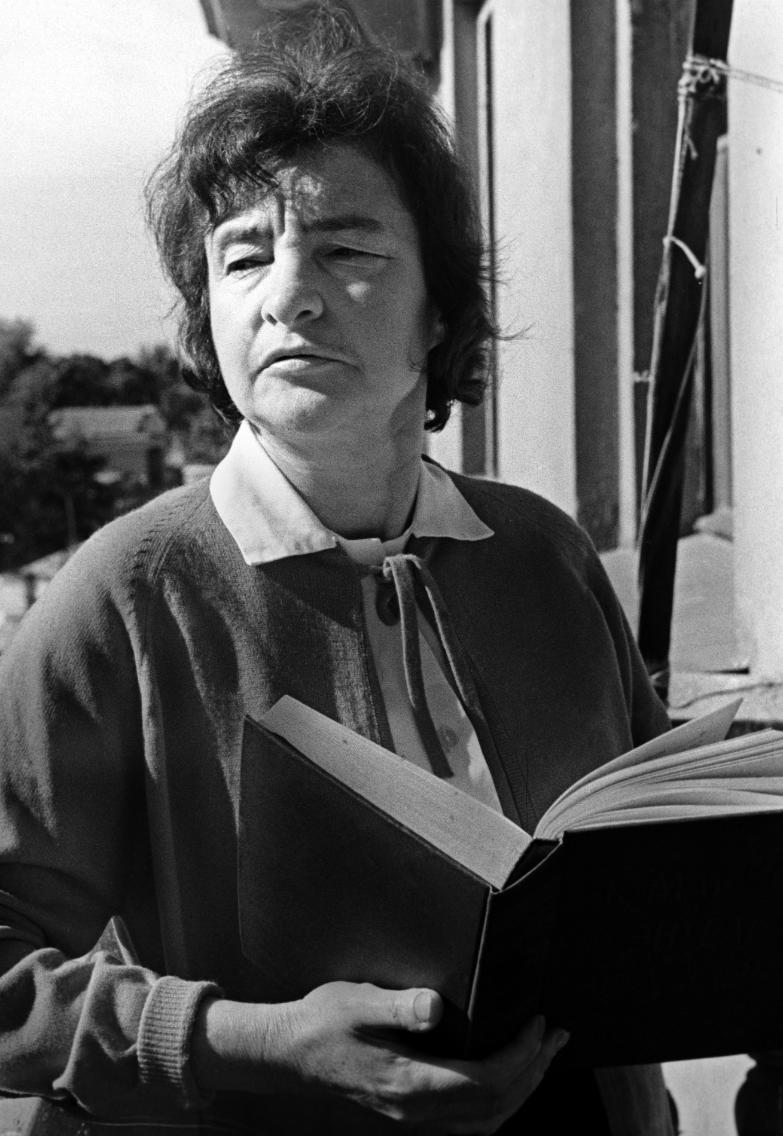
Вячеслав Огрызко
В конце 40-х–начале 50-х годов руководители московских издательств, выпускающих современную художественную литературу, страшно боялись напечатать что-то не то и вылететь из-за этого с работы. Поэтому многие из них постоянно перестраховывались. Они чуть ли не по каждому чиху бегали к своим кураторам в Агитпроп и в отдел художественной литературы и искусства ЦК ВКП(б), согласовывали авторов, проговаривали содержание намеченных к публикациям книг, показывали партфункционерам спорные места в рукописях. Осторожные издатели не успокаивались даже на стадии вёрсток одобренных в партаппарате произведений. Они и все сверки посылали в ЦК.
Как правило, все вёрстки и сверки издатели адресовали секретарю ЦК ВКП(б) Михаилу Суслову, который тогда курировал вопросы пропаганды и культуры. Реже материалы направлялись второму в партии человеку Георгию Маленкову. И в особых случаях вёрстки посылались многолетнему помощнику Сталина – Александру Поскрёбышеву (в основном, когда в произведениях фигурировали вождь, руководители партии, и надо было выяснить возможную реакцию вождя).
Вникал ли Суслов во все направлявшиеся на его имя материалы? Вряд ли. Большую часть полученных вёрсток он, не глядя, сразу отдавал в отдел художественной литературы и искусства ЦК, которым руководил Владимир Кружков. Сам Кружков тоже многие рукописи даже не пролистывал. Для этого существовал возглавлявшийся критиком Василием Ивановым сектор литературы, в котором имелось целых семь инструкторов. Иванов с Кружковым, как правило, лишь подписывали подготовленные инструкторами ЦК справки, заключения и рекомендации для издателей, понимая, что последнее слово в любом случае будет за Сусловым или Маленковым.
Однако этот не прописанный ни в каких инструкциях ритуал иногда давал сбои. И происходило это не по оплошности Кружкова (тот мог что угодно упустить, но только не идейную крамолу, тут глаз у него был намётан), а как раз из-за вмешательств лично Суслова.
Вот одна из таких историй. 3 апреля 1952 года руководители издательства «Советский писатель» Михаил Корнев и Николай Лесючевский послали Суслову в ЦК сверку первой книги молодого прозаика Бориса Бедного1 «Большой поток». Сама книга состояла из одной повести и восьми рассказов. Все эти вещи ранее были опубликованы в периодике и получили неплохую прессу.
«Книга Б.Бедного, – утверждали издатели, – свидетельствует о появлении в нашей литературе нового оригинального и многообещающего таланта2».
Корнев и Лесючевский просили Суслова дать санкцию на подписание сверки в печать. К своему обращению они приложили заключение редактора рукописи Николая Замошкина, две внутренние рецензии на прозу Бедного и выписку из протокола заседания редсовета издательства.
За скобками обращения издателей осталось два важных момента. Первый. Бедный в своих сочинениях почти не касался темы войны. И не потому, что он её не знал. Бедный войну-то как раз очень хорошо знал, сам на брюхе прополз сотни километров не на одном фронте. К слову, в родной части его одно время считали погибшим и выхлопотали ему, как думали, посмертно орден, а он оказался жив, но угодил в плен. Но тут такое дело. В конце 40-х — начале 50-х годов военная тема в нашей литературе не приветствовалась. В верхах считали, что народ устал от всех военных драм и трагедий и хотел чего-то другого. Поэтому издателям была спущена указявка: искать рукописи о вхождении бывших фронтовиков в мирную жизнь и вообще больше выпускать сочинений на темы труда. И тут «Советскому писателю» удачно подвернулся Бедный с его вещами о леспромхозах. И второй момент. Бедный интересно раскрутил в своей повести «Большой поток» тему борьбы старого с новым. Он оттолкнулся от появления в леспромхозах новой техники, которая заставила начальников всех уровней искать новые формы управления предприятиями и отраслями, что в свою очередь привело к выковке новых сильных характеров.
Замошкин в своём отзыве подробно расписал, какую помощь он оказал молодому сочинителю в доработке уже публиковавшихся в периодике вещей. Из слов редактора выходило, что первый вариант повести «Большой поток» страдал многими недостатками.
«Совсем, – сообщил он, – не была мотивирована и не оправдана ссора между главными действующими лицами повести – супругами Костромкиными, хотя на этой ссоре и последующем примирении держится весь сюжет повести».
Замошкин в редзаключении отметил, что для книжного издания повести он заставил автора углубить характер замполита Следникова, чья фигура до этого выглядела совершенно схематично, изменить излишне водевильные сцены в бане и убрать налёты фельетонизма. Редактор не скрывал, что проделал над рукописью огромнейшую работу. «Однако, – признался он, – овчинка стоила выделки: у Б.Бедного есть свой голос, есть знание жизни, остроумие, есть талант».
Приложенные к письму Суслову внутренние рецензии Ивана Арамилёва и Василия Смирнова тоже содержали немало похвал в адрес Бедного. «Без всяких скидок на «литературную молодость» автора, – писал Смирнов, – позволю себе утверждать: Борису Бедному пора издавать свою первую книгу». Ему вторил Арамилёв. Он заявил: «Борис Бедный – писатель с большим будущим, один из молодых претендентов на Сталинскую премию».
Таких же оценок придерживался и редсовет издательства. «Я, – призналась на редсовете Вера Смирнова, – хорошо знаю Б.Бедного по литературному институту. Это талантливый молодой писатель». Кстати, подписала выписку из протокола редсовета Анна Берзер. Это потом ей стали считать первооткрывателем повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича», а в 1951 году она работала всего лишь младшим редактором издательства «Советский писатель».
Конечно, не всё в рукописи первой книги Бедного было равноценно. Очень много «блох» в рассказах отыскал Василий Смирнов. Он вообще предлагал из книги выбросить рассказ «Выходной» (старый писатель не понимал, как обычный советский рабочий мог свой выходной день посвятить только бане). Но Бедный изменил лишь название своего произведения. Рассказ стал называться: «Хозяин». Самым же сильным Смирнову показался рассказ «Комары» (его в мае 1951 года напечатал журнал «Новый мир», который уже редактировал не Симонов, а Твардовский). Но мастера не устроило название: Смирнов предлагал поискать другой заголовок.
И что в присланных издателями в ЦК материалах могло смутить партаппаратчиков? По логике партфункционерам оставалось порекомендовать подписать сверку в печать. Но я уже говорил: у Кружкова был нюх на идеологическую крамолу.
В итоге 27 мая 1952 года он написал своему куратору Суслову: «Вызывает возражение включение в данный сборник рассказа «Хозяин», в котором писатель пытался изобразить выходной день старого рабочего-производственника. Рассказ во многом носит надуманный характер и отличается натуралистическими подробностями. После публикации в журнале «Огонёк» (№ 52 за 1951 год) рассказ «Хозяин» вызвал критические отклики со стороны читателей, в частности, в письмах в редакцию «Правды». Было бы целесообразно рассказ «Хозяин» снять из указанного сборника».
Вот это-то замечание по поводу рассказа «Хозяин» и насторожило секретаря ЦК Суслова. Не забудем, что в верхних этажах власти тогда слово «хозяин» у многих ассоциировалось прежде всего со Сталиным. Именно вождя партэлита считала самым главным хозяином.
На записке Кружкова сохранилась помета: «Доложить лично. М.Суслов. 4/VI». Но что именно Кружков устно сообщил своему куратору, осталось неизвестным. Мы можем только догадываться. Скорее всего, он проинформировал босса о том, кто такой Борис Бедный, и пересказал ему содержание вызвавшего сомнения рассказа. Не исключено, что Суслов или ещё до вызова Кружкова, или во время встречи с Кружковым всё-таки глазами пробежал текст спорного сочинения Бедного, но никакой идейной крамолы в нём не обнаружил.
После полученных разъяснений Суслов вернул записку её автору – Кружкову. И последний сделал свою помету на документе: «Доложено. Рассказ «Хозяин» оставить».
Книга Бедного в итоге успела выйти всё в том же 52-м году. Впоследствии по одной из повестей писателя режиссёр Юрий Чулюкин снял очень душевный фильм «Девчата», который и сейчас часто показывают по телевидению.
А как поступал Суслов с предложениями Кружкова по другим писателям? Чаще всего с ними соглашался. Скажем, замглавреда «Советского писателя» П. Чагин весной 1952 года попросил ЦК разрешить выпустить отдельной книгой повесть Лазаря Карелина «Младший советник юстиции», которая в процессе доработки после публикации в журнале «Знамя» увеличилась на четыре печатных листа. Кружков выдал рекомендацию: мол, эту вещь можно отправить на печатный станок. И как отреагировал Суслов? Он на полях записки Кружкова просто оставил свой автограф и дату: 2 июня 1952 года. Это означало, что Суслов не возражал. Точно так же секретарь ЦК отреагировал и на предложения о запуске в печать повести Александра Чаковского «Хван Чер стоит на посту».
Но в другой раз Кружков доложил Суслову, что у отдела художественной литературы ЦК возникли сомнения в опубликованном в журнале «Звезда» романе Михаила Слонимского «Верные друзья». «Считаем, – написал партаппаратчик секретарю ЦК, – нецелесообразным издание романа М.Слонимского «Верные друзья» отдельной книгой в представленном виде». Но Суслов дал понять, что в произведении Слонимского большой крамолы не нашёл, как и не увидел в нём сильных художественных достоинств. На внесённой ему записке он оставил помету: «тов. Кружкову В.С. На ваше решение. 2/VIII-52».
Интересно, что на каких-то документах Суслов тем не менее ничего не помечал. Скажем, 5 июля 1952 года Кружков и Иванов ему доложили о просьбе «Советского писателя» разрешить выпустить отдельным изданием переработанный вариант поэмы Маргариты Алигер «Красивая Меча» (первая редакция была опубликована годом ранее в журнале «Новый мир»). По мнению двух партаппаратчиков, новый текст лучше не стал. «Очень глухо, – сообщали они, – говорится в поэме о работе по преобразованию природы». Им показалось, что остался «бедным внутренний мир героев». В общем, отдел художественной литературы ЦК предлагал вновь всё вернуть поэтессе и издательству на очередную доработку.
Реакция последовала уже через день после внесения записки. Но какая? Внизу документа появилась помета: «тов. Кружкову В.С. Тов. Суслову доложено. 7.VII.52. С.Гаврилов». Гаврилов – это помощник Суслова.
Ну и что это означало? Скорей всего то, что Суслов ещё не определился с новым вариантом поэмы Алигер. Точнее: он, судя по всему, тоже считал, что даже в переработанном виде «Красивую Мечу» издавать в формате книги не стоило. Но Суслов в данном конкретном случае не хотел выглядеть главным цензором и тем более главным запретителем новой поэмы Алигер. Во-первых, он помнил о прежних заслугах поэтессы и о том, что ей когда-то присуждалась Сталинская премия. Во-вторых, ему было известно, что у Алигер имелся немалый авторитет в писательском сообществе. И третье. Высокопоставленный партфункционер очень не хотел, чтобы кто-то попытался использовать претензии партаппарата к текстам Алигер для разыгрывания опасной национальной карты. В близких к одному из руководителей Союза писателей – Анатолию Софронову – кругах и так муссировались слухи о возможной причастности Алигер к космополитам, в связи с чем постоянно поминалась глава «Мы – евреи» из более ранней поэмы поэтессы «Твоя Победа». А Суслов категорически был против того, чтобы кто-то подверстал Алигер к сионистам и чтобы начался новый виток поиска и осуждения космополитов в писательской сфере.
Как он вывернулся из этой ситуации? Очень просто. Суслов дал через Кружкова устное указание заняться дальнейшим рассмотрением нового варианта поэмы Алигер Союзу советских писателей. Подчеркну: именно устное. По сути, он переложил всю ответственность на литературный генералитет.
Взяв под козырёк, литначальство 2 сентября 1952 года вынуждено было создать специальную комиссию. Но смотрите: в неё никто из случайных людей не вошёл. В эту комиссию были отобраны Николай Тихонов, который весной 1945 года давал согласие на публикацию в журнале «Знамя» большой подборки стихов Алигер, содержавшей немало крамольных вкраплений, Александр Твардовский, печатавший в «Новом мире» первую спорную редакцию поэмы «Красивая Меча» и главред «Советского писателя» Николай Лесючевский. И возглавил эту комиссию не абы кто, а замгенсека Союза писателей Константин Симонов, который всегда относился к Алигер с большой нежностью.
Понятно, что эта комиссия оказалась в весьма затруднительном положении. Все три литгенерала были не только большими писателями, но и искушёнными в политике людьми. Они, естественно, знали, откуда росли ноги и что от них ждал партаппарат и лично Суслов. В первую очередь им предстояло забраковать новый вариант поэмы Алигер. А это могло привести к ссорам, склокам и ко всему прочему. Допустить такое, разумеется, никто не хотел. Поэтому нетрудно было догадаться, что все три литгенерала, связанные с Алигер давними приятельскими отношениями, все упрёки в адрес поэтессы, безусловно, немедленно сопровождали бы предложениями по доводке этой поэмы до устраивавшей партчиновников кондиции. Собственно, всё так и произошло. Другое дело: на все уговоры Алигер и на разные там доводки потребовалось время. На всё про всё ушёл не один месяц. А там умер Сталин. После похорон вождя новое руководство страны поручило Суслову сосредоточиться прежде всего на международных делах, поэтому пару последующих месяцев вопросами культуры он занимался эпизодически. И окончательную судьбу поэмы «Красивая Меча», точнее её третьей редакции, сделанной под руководством Симонова, Твардовского и Тихонова, определял другой секретарь ЦК – Пётр Поспелов.
Поспелов поначалу вертелся как уж на сковородке. Ему очень не хотелось стать во всей этой истории крайним. Выход подсказали перешедшие в новый отдел ЦК – отдел науки и культуры – П. Тарасов и В. Иванов. «Было бы целесообразно, – сообщили они начальству своё мнение, – передать решение вопроса об издании поэмы М. Алигер «Красная Меча» отдельной книгой на усмотрение Секретариата Союза советских писателей СССР». Поспелов на их записке внизу оставил помету: «За».
Правда, потом выяснилось, что Поспелов, прежде чем расписаться на записке Тарасова и Иванова, всё-таки сбегал к Суслову и всё согласовал с ним. Уточню: Суслова такой способ утряски конфликтных ситуаций вполне устроил. Он ведь сам никогда не рвался в публичное поле, чтобы показать себя главным идеологом. Ему как раз нравилось находиться в тени и всем управлять, не афишируя своё участие.
______________________
1Автор известен прежде всего благодаря повести «Девчата» и одноимённому фильму.
2Здесь и далее цитаты по материалам РГАСПИ и РГАНИ

